Вечное одиночество венгерской литературы
Интервью с переводчицей Оксаной Якименко
— В конце прошлого года вышел роман Шандора Мараи «Свечи сгорают дотла» — ваша последняя переводческая работа. Расскажите, пожалуйста, об этом авторе и его романе.
— Про Мараи можно долго говорить, но обязательно надо знать вот что: вероятно, это самый известный венгерский писатель XX столетия (я имею в виду известность за пределами Венгрии). Он вообще ровесник века: родился в 1900 году, а умер в 1989-м. У него судьба, характерная не только для венгерского человека, но и для венгерского автора. Первую половину своей жизни он прожил в Венгрии, был популярен как писатель и очень много писал: статьи, эссе, проза — много прозы, романы, рассказы. Всего из-под его пера вышло около сорока пяти книг. Мараи был настоящим литератором, очень много путешествовал, хорошо говорил на разных языках, даже думал как-то писать на немецком. Кстати, стоит отметить его антинацистские взгляды. После войны, когда изменилась карта Европы и Венгрия стала дрейфовать в сторону советского лагеря, он понял, что эмиграция неизбежна, это и случилось в 1948 году. В то время для Мараи были характерны уже антикоммунистические и антисоветские настроения. Поэтому сначала он уехал в Италию, потом в США, затем вернулся в Италию. С начала 1950-х и до конца 1960-х годов местом работы писателя было радио «Свободная Европа». В конце концов он оказался в США, в Сан-Диего, где покончил жизнь самоубийством, как это заведено у венгерских писателей.
 Оксана Якименко
Оксана Якименко
Что же касается романа, то «Свечи», наверное, самый известный текст Мараи. По сути, это разговор двух стариков, в прошлом близких друзей, которых за сорок один год до описанной в романе встречи разлучила романтическая история с элементами детектива или триллера. Если без сюжетных спойлеров, то можно сказать, что эта книга — о безвозвратном исчезновении «старой доброй Европы», воплощением которой здесь становится габсбургская Вена конца XIX века. Однако не стоит обольщаться насчет безмятежного прошлого: в нем корни тех ужасов, которые ждали героев уже в XX веке. То, что роман хорошенько «полежал» на полке, на мой взгляд, делает его даже более интересным: например, это чисто «мужская» история, где женщина (точнее, женщины) во многом определяют ход событий и судьбы героев, но при этом практически лишены субъектности. Также любопытен прослеживаемый в нем диалог двух империй — исчезнувшей к моменту написания текста империи Габсбургов и еще существующей, но уже теряющей свои колонии Британской империи (один из героев продолжает мыслить себя гражданином Австро-Венгрии, а второй становится гражданином Англии и полжизни проводит в ее колониях).
— Почему выбор пал на этот роман?
— Об этом, наверное, лучше спросить Екатерину Морозову, главреда «Носорога», которая инициировала перевод и издание книги. Насколько мне известно, Катя заинтересовалась венгерской литературой, прочитав «Книгу воспоминаний» Петера Надаша, начала изучать, что там еще есть, и обнаружила популярного в Европе, но не очень хорошо известного в России Мараи. Если посмотреть на судьбу этого романа, все вполне логично: в 1990-е годы, после смерти Мараи, этот текст вернул писателя в европейское пространство. Когда Мараи уехал из Венгрии, он был против публикации своих книг на родине, но после его смерти их начали издавать, и в итоге Мараи стал героем одной из франкфуртских ярмарок, где активно продавались права на роман «Свечи сгорают дотла», написанный, между прочим, в 1942 году. Текст относительно небольшой и, как мне кажется, привлекательный для разных аудиторий, поэтому выбор понятен.
«Свечи» перевели на итальянский, потом перевели на английский — и роман выстрелил, что называется, сделав Мараи бешено популярным, хотя главное его наследие — это дневники.
— Он долго их вел?
— Почти всю жизнь, но вел по-разному: пока жил в Венгрии, это были только записи каких-то фактов, а когда уехал, они превратились в литературный эксперимент, потому что в эмиграции Мараи как писатель печатался меньше. Дневники, по его собственному признанию, помогали ему жить в языке, не терять писательских навыков.
— Вы переводили многих знаменитых венгерских писателей: Петера Эстерхази, Яноша Пилински, Пала Заваду. С кем из венгерских писателей XX века наш читатель совершенно незнаком и кого еще вы хотели бы перевести?
— Кое-что уже перевела. В литературе любой страны есть ключевой автор, меняющий картину родного языка. В Венгрии таким писателем стал Миклош Месёй — автор последней трети XX века, повлиявший на многих современных писателей. К сожалению, произведений Месёя практически нет на русском языке: одну его новеллу перевел Юрий Павлович Гусев, а я перевела несколько его статей про кино. На самом деле это человек, который изменил венгерское литературное письмо. Он автор того же типа, что и Краснахоркаи, которого у нас тоже начали публиковать: в издательстве Corpus вышли «Сатанинское танго» и «Меланхолия сопротивления» в переводах Вячеслава Середы. Когда Краснахоркаи говорит о себе, то он подчеркивает, что его литература выросла из Месёя. Этот писатель мне кажется ужасно важным для понимания того, как устроена венгерская литература. Мы с моей коллегой Алиной Щегловой перевели две его вещи, но пока «застряли»: дорогие права, издательства думают. Это литература скорее про «как», чем про «что» — продвигать ее непросто. Плюс всем же хочется свежего, а лакуны заполнять сложнее. В этом смысле я немного завидую немцам — в немецкой практике, как я себе представляю, есть такой принцип «коврового» перевода: пусть все мировое богатство будет на нашем языке. В русскоязычном поле такого сейчас нет.
 Ласло Краснахоркаи
Ласло Краснахоркаи
— Без каких еще неизвестных нам авторов невозможно представить себе венгерский литературный ландшафт?
— Переводили почти всех, но совсем понемногу. Есть такие авторы, которых прямо хочется увидеть опубликованными. Из современных очень хочу, чтобы больше появилось вещей ушедшего от нас в этом году Яноша Тереи. До сих пор были опубликованы только одна его пьеса, «Ресторанная музыка», и главы из двух романов.
Это человек, всколыхнувший в венгерской литературе жанр стихотворного романа, что мне кажется очень привлекательным моментом, ведь редко бывают ситуации, когда люди активно читают романы в стихах.
— Его романы написаны ритмизованной, близкой к стиху прозой?
— Нет. У него есть роман, написанный ямбом, есть пьесы в стихах. Это интересная тема, потому что в венгерской литературе после «Евгения Онегина» появилось целое направление — стихотворный роман. В XIX веке это направление жило довольно активно, потом в XX веке оно потеряло популярность, но позже пришел Тереи и стал писать такие романы. Мне очень нравится его книга «Прогулка по Будапешту» — это стихотворные новеллы.
— Вы возьметесь переводить ее?
— Я же стихи не перевожу.
— А кто мог бы взяться?
— Например, Даша Ващенко. Она, кстати, уже переводила стихи Тереи и начала работать над его антиутопическим романом «Самый малый ледниковый период», который был создан под сильным влиянием Пушкина, но не «Евгения Онегина», а «Бесов». Если коротко, то произведение о том, что все ждали глобального потепления, но наступил малый ледниковый период — и Европа замерзла. У Тереи всё про современность: мир, каким мы его знаем, рушится, все европейские политики начинают психовать. Это очень выразительный текст с яркими описаниями замерзающей Европы. Даша делала фрагмент этого романа, он вышел в «Звезде» в прошлом году.
— Расскажите о традиции перевода венгерской литературы на русский язык — о XIX веке, о литературе советской Венгрии, встроенной в официальную литературу сталинского периода.
— Все начиналось прилично в конце XIX века, как у всех. Понятна логика развития большинства центрально- и восточноевропейских литератур — у многих из них совпадали циклы становления. Сперва язык долгое время существует в роли квазигосударственного языка или вообще негосударственного — так было и с венгерским в течение Средних веков и позже. Литература существует в атомизированном состоянии, потом наступает эпоха Просвещения, возникают люди, которые понимают, что язык является важнейшей частью культурного и национального самосознания — в XVIII веке этот процесс происходит во многих странах. Появляются переводы классики с иностранных языков, которые встраиваются в процесс развития языка. То же самое происходило в Венгрии. В середине XIX века там складывается национальная литература в нашем современном историко-литературном понимании. Понятно, что и в российской литературной реальности в конце XIX века возникает интерес к разным неизвестным литературам. Был такой замечательный человек Николай Николаевич Бахтин, работавший под псевдонимом Нович, и его очень увлекала тема нераскрытых русскому читателю литератур. Бахтин обладал внушительной коллекцией поэтических книг, среди которых был сборник мадьярской поэзии, изданный в 1897 году. Он стал действовать, как сейчас бы действовал просветительский проект: нашел венгра Эндре Сабо, хорошо знавшего русский (кроме прочего, Сабо переводил на венгерский Достоевского), чтобы тот помог ему подобрать авторов и сделать подстрочники. Какие-то вещи они переводили с немецкого или французского, какие-то по подстрочникам. Это было одно из первых изданий, где переводили с венгерского. Получилась очень аккуратная книжка, в которой про каждого автора было что-то написано, представлен грамотный анализ места этого автора в системе венгерской литературы, даны основные факты из истории Венгрии. В общем, начиналось все красиво, но потом продолжилось сообразно историческим событиям. В 1919 году, после состоявшейся в 1918 году Революции астр, в СССР приехало много венгров.
 — Это были венгерские коммунисты?
— Это были венгерские коммунисты?
— Да. Они вывезли с собой свое представление о венгерской культуре и литературе в СССР и в 1920-е стали заниматься изданием венгерской литературы. В 1925 году они опубликовали сборник «Венгерская революционная поэзия», в котором были представлены те, кого они считали главными.
— Это соотносилось с культурной иерархией в Венгрии?
— В 1925 году еще соотносилось, потому что они еще не так давно переехали. Были какие-то безусловные литературные авторитеты, но они, конечно, их попинали: блестящего прозаика и поэта Венгрии первой половины XX века Дежё Костолани, который был очень литературно одаренным человеком, они прозвали фашистом, а про крупнейшего поэта Эндре Ади написали, что он невнятный и неясный.
— То есть начался период идеологической селекции?
— Да. Они охарактеризовали этих писателей, потом характеристики начали кочевать из текста в текст, как это было принято в советской системе. Вот сейчас я открыла книгу, и тут написано, что Костолани — «один из ужасных и отвратительных вождей венгерского фашизма». Человек вообще не этим занимался и никогда не был вождем венгерского фашизма. Формулировки оставались с этими авторами навсегда, и их уже не переводили. Мы знаем такую практику. Есть важные стилистически, художественно и литературно интересные вещи, которые в венгерской литературе к этому моменту, безусловно, были, но остались тогда непереведенными, поэтому их в советском корпусе иностранной литературы нет, хотя позже переводы появились. Эти авторы, прибывшие в СССР, стали печатать и переводить друг друга: например, печатался Янош Матейка, составитель того самого сборника, Мате Залка, Иллеш. Надо пояснить, что не все они знали русский достаточно хорошо, потому что тот же Матейка в предисловиях на русском языке путает «пьесу» и «песню» или «раздел» и «отдел». Одним из главных персонажей этого русского венгерского пространства стал Антал Гидаш (Хидаш). Его довольно много печатали по-русски, он писал стихи, с формальной точки зрения похожие на поэзию Маяковского. Андор Габор, который писал про Ленина и пролетариев, например, создал стихотворение «Пролетарию в дурные дни». Кроме того, в СССР приезжали разные интересные авторы типа Белы Балажа. Его первое время тоже переводили с немецкого, потому что переводчиков еще не было. А так эти авторы часто сами себя переводили с переменным успехом. Практически до конца 1930-х все это с точки зрения перевода очень неубедительно. Корявые переводы, не самые сильные оригиналы (были исключения, конечно — тот же Лендел, хотя он свои лучшие вещи уже позже написал) и отсутствие классики давали не лучшую картину венгерской литературы.
— Расскажите про послевоенный период, когда СССР зашел на территорию Венгрии.
— Во время войны были какие-то люди из СССР, которые попали в Венгрию. Например, Владимир Сергеевич Байков, который не был ни литератором, ни переводчиком — единственное, до войны числился студентом Литинститута. Так вот, его дивизию разместили в небольшом городке Дёндеш. Он жил в семье простого крестьянина, который говорил только на венгерском, поэтому ему пришлось искать переводчика. Выяснилось, что в этом городке есть маленькая языковая школа, которой владел сельский учитель Ференц Хугаи, который даже что-то серьезное переводил с французского. Этот учитель рассказал Байкову «про венгерскую литературу», то есть послевоенное восприятие венгерской литературы в СССР отталкивалось от представлений о ней сельского учителя. Первым делом он показал Байкову рассказ «Семь крейцеров» — хороший рассказ Жигмонда Морица, но, пожалуй, не главный текст венгерской литературы. Это как если бы кто-то хотел узнать про русскую литературу, а ему попался человек, рассказывающий о ней по советскому школьному учебнику. В 1947 году Байков вернулся в СССР, стал преподавать литературу в Военном институте иностранных языков Красной армии, где готовили военных переводчиков. В мемуарах он вспоминает, как ходил в Ленинку за книгами, которые написали те венгры, что жили в СССР. Получается такая герметичная история. Вообще-то Венгрия даже сегодня про этих советских авторов вроде Антала Гидаша не знает, исключая, конечно, специалистов. Это несуществующие в головах венгроязычных людей литераторы. Байков стал это все преподавать. Он сам признается, что лекции делал в трех экземплярах: один себе, другой на рецензирование, а третий — начальству. Там никакая радикальная мышь не могла пробежать. Поскольку слушатели его были военными, прошедшими войну, то они и стали первым поколением послевоенных переводчиков, активно работавших в 1950-е годы, — это Салимон, Гершкович, Громов, Лейбутин. Тот факт, что все они выпускники военного вуза, не отменяет наличия у некоторых из них таланта к переводу.
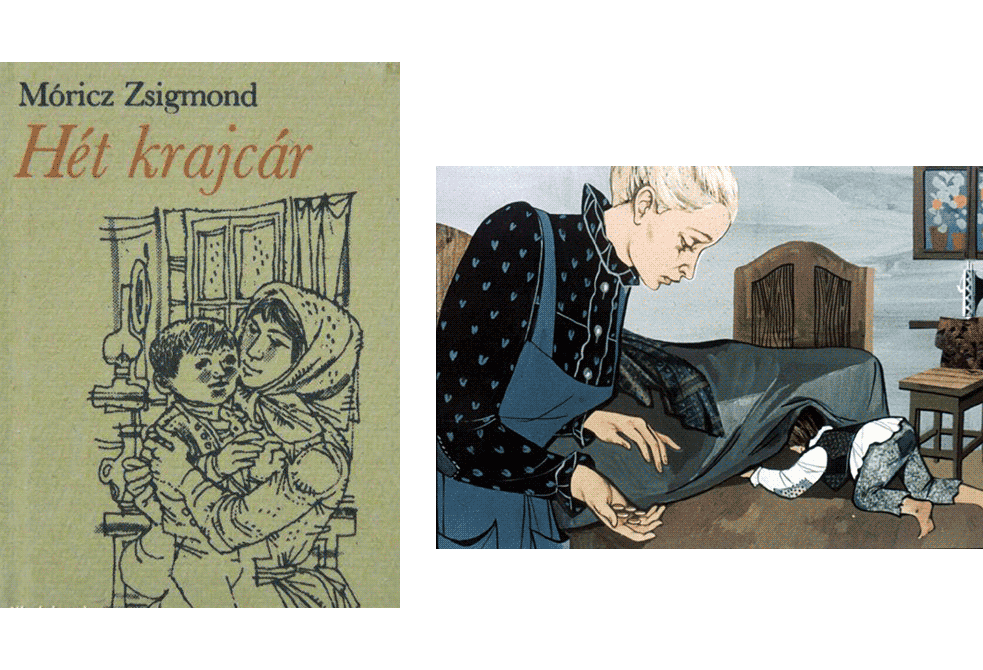 — Но он не был обязательным качеством.
— Но он не был обязательным качеством.
— Да. Когда ты вырастаешь в такой системе, все равно она создает тебе ограничения в плане выбора и вкусовых предпочтений, сужает картину. Никто не знакомил их с мировой литературой. До Олега Константиновича Россиянова, до его деятельности по переводам литературы, не переведенной вовремя, венгерская литература не помещалась в контекст мировой литературы, которая существовала вокруг неё. Надо отметить, что Байков в 1956 году вернулся в Венгрию и курировал Яноша Кадара от СССР. Это советская история, потому что в 1952 году, когда СССР стал отбирать главных венгерских писателей, внутри Венгрии их тоже начало назначать местное советское руководство. В 1952 году по личному решению Сталина два венгерских писателя попали в число лауреатов Сталинской премии — Тамаш Ацел и Шандор Надь. В этом есть какая-то ирония, потому что Надь потом спился, а Ацел продал свою медаль на аукционе в Лондоне.
— Получается, что от литературы сталинского периода ничего не осталось?
— Нет. В 1950-е была практика издавать «кирпичи» хрестоматийного типа, в которых собирались авторы, важные для литературы красной страны. В 1953 году вышли сборник венгерской прозы и большой «кирпич» венгерской поэзии, в который попали и хорошие авторы. Там, кстати, переводчиками с подстрочников были — помимо Мартынова, переводившего непосредственно с венгерского, — и Пастернак, и Чуковский. И все равно, несмотря на присутствие хороших авторов и переводчиков, картинка казалась унифицированной. Отношение к этому было такое же, как вообще к любым проявлениям национальных культур: это все одно и то же, но с налетом этничности. Даже по обложкам видно: обложки всех венгерских книг того периода были одинаково украшены каким-нибудь фольклорным элементом, цветочком, характерным для венгерской вышивки. Авторы отбирались с точки зрения идеологической правильности. Я открыла сборник венгерских рассказов и повестей 1952 года, где все эти военные переводчики, и там написано, что сборник даст читателю возможность познакомиться с жизнью венгерского народа, уверенно идущего по пути строительства социализма. В этом сборнике есть феерический рассказ Сабо про старика, который вспоминает, как он видел Ленина, а Сталина не видел, зато внутренним зрением хорошо себе представляет.
— Расскажите про тот период, когда унгаристика стала наукой и появилось литературоведение, специализирующееся на венгерской литературе.
— Этот период начался в 1960-е годы, когда Венгрия стала присутствовать в сборниках «Библиотеки всемирной литературы» или «Истории всемирной литературы», где Россиянов написал много грамотных актуальных текстов про венгерскую литературу. В БВЛ есть том, который называется «Европейские поэты Возрождения», там присутствуют три главных венгерских поэта этой эпохи. Появляется исторический подход, который ставит венгерскую литературу в ряд с другими литературами. Уже упомянутый Олег Россиянов и затем Елена Малыхина, выдающийся переводчик и популяризатор, много сделали для того, чтобы познакомить советского читателя с качественной венгерской прозой и поэзией. По их собственным воспоминаниям и рассказам коллег, настоящую, хорошую литературу приходилось буквально «продавливать». Благодаря им и их коллегам, в том числе Татьяне Воронкиной, Юрию Гусеву (они уже считаются следующим поколением переводчиков), в 1970-е и в начале 1980-х годов стали выходить не только классики, но и современные авторы. Того же Эстерхази на русский впервые перевела именно Малыхина, она же открыла русскому читателю Радноти, Пилински, Вереша — в том числе и как составитель сборников и автор подстрочников для стихотворных переводов.
— Действительно, эти литераторы поместили венгерскую литературу в исторический контекст. В какой-то момент происходит осознание национального языка и формируется литература современного типа, а потом начинается обратное движение — уже литература работает на самосознание. Что можно сказать об особенностях венгерской литературы и менталитета? Я имею в виду одиночество в Европе: все-таки Венгрия окружена совсем другими языками, и венгры от всех отличаются.
— Это одиночество очень хорошо отрефлексировано в модернистской венгерской литературе начала XX века, например, у Эндре Ади. Есть авторы, которые исследуют эту тему. Тут тоже надо немного разграничить — например, в начале XX века случилась характерная история, получившая смешное продолжение в русском переводе. В венгерской литературе существует ряд этических текстов, среди них «Будь хорошим до смерти» Жигмонда Морица считается одним из главных, он вышел в 1920 году. Этот текст про мальчика, который переживает момент понимания того, что такое хорошо, а что такое плохо. В его школе преподает учитель географии — венгерский националист, стихийный правый, который читает на уроке лекцию про венгров и про то, какие они одинокие, — как раз иллюстрация к нашему разговору. В начале 1980-х годов эту повесть перевели Подземская и Луговая (до этого был в 1958 году перевод Оленина и Малыхиной, тоже с купюрами, но не с собственными «сочинениями»). В оригинале он показывает детям карту Европы и говорит примерно следующее: «Какое мы, венгры, имеем отношение к остальным народам? Мы тут как в клетке. К кому прибиться?» Дальше он всячески ругает славянских и прочих соседей, говорит, что в венгерском нет ни одного слова, которое было бы похоже на всё, что их окружает. Это неверно, конечно. Самое смешное, что из перевода 1981 года этот кусок просто выбросили, заменили его рассказом о финно-угорском родстве венгров, буквально следующее написали: «Родичи наши, дальние родичи — это финны, эстонцы, эрзяне, мордвины, марийцы». Дальше этот географ (у переводчиков) говорит: «Как много успел сделать на своей земле маленький венгерский народ». Это уже совсем смешно, потому что венгерский народ на тот момент не был маленьким. На самом деле люди, которые рассуждали как учитель географии в оригинале, не радовались финно-угорской теории, потому что родство с полудикими, как они считали, финнами и эстонцами, у которых не было даже государства, не говоря уже о хантах и манси, не казалось симпатичным. Сейчас, кстати, тоже все сложно с финно-угроведением, эта теория снова стала непопулярной, многие путают этническое и языковое родство. Есть такое стремление, как и в начале XX века, — отказаться от финно-угорского родства без понимания того, что этнически венгры, конечно, не так близки к финнам, как в языковом плане.
— Мы же понимаем, что вся эта этническая история не обладает никакой чистотой — в отличие от лингвистической, она сложно определима.
— Да, конечно. Мы с молодыми переводчиками на семинаре буквально этим летом перевели любопытный текст про то, какие народы и когда пришли в Венгрию. Это не столько художественное, сколько публицистическое произведение Кристиана Няри «Обретатели Родины» — в нем есть и довольно грустное рассуждение о современной Венгрии, где ох как всё непросто в этом смысле.