«В университете я решила учить русский, чтобы читать Ахматову»
Читательская биография директора фонда V-A-C Терезы Мавики
С чего началась ваша читательская биография?
Рассказать о своей читательской биографии можно по-разному. Можно вспомнить знаковые книги, чтобы вписать себя в большую историю, а можно воспользоваться нашим разговором как некой психотерапией и попробовать найти те книги, которые красной нитью проходят сквозь всю мою жизнь и определяют именно мою личную историю. Мне больше нравится второй путь.
Моя читательская биография началась, когда мне было восемь лет. Я только перешла в третий класс, была отличницей и очень любила читать. Шел 1968 год, и тогда в моей жизни случилась трагедия: политическая карьера отца вынудила мою семью переехать в другое место, разлучив меня со школой и преподавательницей, которая очень любила меня, как и я ее. Перед отъездом она подарила мне книгу, на которой написала: «Всегда люби чтение». Думаю, именно это и сделало из меня компульсивного читателя, хотя книга ничего особенного из себя не представляла — это была история о девочке, которая переехала в большой город, а летом вернулась в родную деревню и обнаружила, что связь с этим местом не пропала. Когда я читала ее в первый раз, то, естественно, следила только за героями и развитием событий, но спустя много лет я поняла, что этот рассказ посеял во мне ростки культа личной памяти, который я развивала потом в течение всей жизни. Именно поэтому для меня крайне важны взаимоотношения с прошлым. Так благодаря учительнице и атмосфере, царившей тогда в третьем классе, я увлеклась чтением, а эта книга до сих пор стоит где-то на полке у меня в библиотеке.
На формирование человека влияет множество факторов. В семье у нас все всегда читали, ведь речь идет о том времени, которого многие молодые люди сегодня и не помнят, — до массового распространения интернета. Родители были строгие и не давали смотреть телевизор. Семья собиралась по вечерам вместе, и отец читал вслух, а на Рождество или на Новый год детям обязательно дарили книги. Дальше само собой вышло, что тесные отношения с чтением привели меня в итоге в классический лицей. В Италии того времени структура среднего образования предполагала, что после восьмого класса ученик идет в лицей и должен выбрать направление, техническое или гуманитарное. Последнее тогда называлось классическим лицеем — туда меня и определили. Учеба была достаточно суровая, мне исполнилось тринадцать лет, и к тому времени тоже относятся некоторые ключевые для меня моменты, связанные с чтением. Мы учили латинский и греческий языки и читали много латинской и греческой литературы. Я помню, какое впечатление произвели на меня «Одиссея» и «Илиада». Это было что-то фантастическое, чарующее. Забавно то, что в лицее мы читали сложный, взрослый перевод, а родители тогда же купили домой «детский», облегченный, чтобы проще было вникнуть.
Уверена, что лицей меня избаловал, потому что, когда начинаешь усердно изучать классическую литературу, быстро привыкаешь к хорошему чтению, и это во мне осталось. Следующей вершиной после Гомера стала для меня «Божественная комедия», и она тоже сильно на меня повлияла, потому что там, с одной стороны, есть завораживающая история, а с другой стороны — политическая тематика. Это меня очень интересовало, поскольку мой отец всю жизнь был политиком, у нас в семье все время шли политические дискуссии — и вдруг я попала в мир Данте, мир борьбы, политического сопротивления.
А насколько понятен Данте современному итальянскому читателю — и в плане языка, и в плане исторических реалий?
К сожалению, я не очень хорошо знакома с современным итальянским читателем. Мне было тогда лет пятнадцать, с тех пор прошло много времени — не уверена, что сегодня Данте изучают так же. У нас был очень строгий лицей, ученикам приходилось много работать, выполнять массу заданий, о которых я до сих пор думаю, и не вполне понимаю, для чего они были придуманы: переводы с греческого на латинский и наоборот — едва ли не издевательство. Еще важный момент — как именно мы читали Данте. В других школах того времени проходили только самые важные отрывки, а нас заставляли читать все. Это был тяжелый труд, но меня он увлекал, поскольку преподаватели очень хорошо вели уроки. Мы проходили Данте на всех предметах, преподаватели старались выявлять самые разные связи и параллели, рассказывать и показывать на примере творчества Данте, как устроена наша страна (которая, по большому счету, единой страной никогда не была и не сильно изменилась со времен Данте). Скажу так, фоновую политическую борьбу в «Божественной комедии» мы воспринимали с точки зрения современности. Кроме того, у нас были занятия по религии, где нам рассказывали о том, как стать правоверными католиками. Вел эти занятия священник, но на его уроках мы также читали «Божественную комедию». Это был междисциплинарный подход, который, надо сказать, до сих пор мне близок. Часто возвращаюсь к этому чтению: у меня вообще есть привычка перечитывать книги, вспоминая былые ощущения. В «Божественной комедии» меня поражает ощущение монументальности, цельность мира в чрезвычайно полном анализе: Данте может тремя словами исчерпывающе описать человека.
А какие еще книги повлияли на вас в те годы?
Одна книга времен лицея оказалась очень для меня важной в свете того, чем я занимаюсь сегодня, — это «Социальная история искусства» Арнольда Хаузера. Он написал не просто очередную скучную историю искусства — кто, когда родился и что сделал. Хаузер смог объяснить механизм и движущие силы культуры, он показал, почему и как возникали те или иные феномены. Он задавался вопросами, как появились изобразительное искусство, театр, кино и каким было общество, породившее такой культурный продукт. Обучение в моем лицее основывалось на похожем подходе, и мое видение проектов нашего фонда сегодня во многом связано именно с этим подходом, с этой книгой. Очень важная книга. Мне бы хотелось, чтобы она стояла на полке у каждого.

Обложки итальянского издания «Социальной истории искусства» Арнольда Хаузера
Фото: личный архив Терезы Мавики
Еще в то время я читала Стендаля (и зачитываюсь им до сих пор) — правда, к сожалению, только на итальянском языке. Наверно, если бы я родилась где-то в Милане, то ходила бы в школу, где французскую литературу читали бы на французском, а английскую на английском, но я родилась на юге и попала в лицей, где основное внимание уделялось изучению итальянского, греческого и латинского. Сегодня, конечно, жалею, что не читала литературу в оригинале, — для меня это потеря. Надо признаться, что чувство неудовлетворенности из-за незнания языка, на котором хочешь что-то прочесть, вернулось ко мне позже: в университете я решила учить русский, чтобы читать Ахматову.
Почему именно Ахматову?
Как я уже говорила, отец читал нам по вечерам вслух, и в том числе поэзию. Мне кажется, мое поколение (если говорить об Италии) последнее, которое читало стихи. Как сейчас помню, на уроках итальянской литературы это был целый мир. Во время чтения стихотворения Джакомо Леопарди я могла заплакать. Да я и сейчас могу плакать над такими вещами. А когда я начала читать Ахматову на итальянском, стало очевидным — нужно знать язык, чтобы понимать эту поэзию. Но это случилось уже по окончании лицея, в то время, когда пора было выбирать университет, в 1978 году.
Вы говорите, что структура чтения в Италии в последнее время существенно изменилась, а можно ли сказать, что у ваших сверстников были схожие предпочтения в плане литературы, какой-то общий круг чтения?
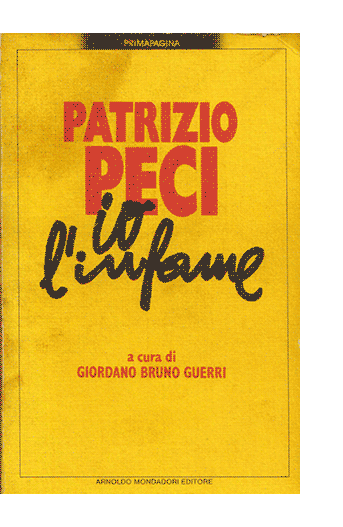 Обложка книги Патрицио Печи, одного из лидеров Красных бригад
Обложка книги Патрицио Печи, одного из лидеров Красных бригадДа, определенный круг чтения у моих сверстников был. В семидесятые мое поколение узнавало мир и то, что в нем происходит, благодаря журналистке Ориане Фаллачи. Ее жизнь и труды до сих пор вызывают дискуссии в итальянской политической среде. Фаллачи была военной корреспонденткой из Тосканы, это родина Данте и литературного итальянского языка. За три десятилетия она умудрилась взять интервью у всех лидеров мира и никогда не боялась высказывать свое мнение. У нее был страстный роман с греческим революционером, Александросом Панагулисом, про которого в 1979 году она написала книгу под названием «Un Uomo» («Человек») — это история на 700–800 страниц, массивная книга. Я уже была в университете, на первом курсе, должна была сдавать экзамен по экономике, но, вместо того чтобы готовиться к нему, ночами напролет читала эту книгу. И, конечно, это никак не сходится с тем, что мое поколение в то же время зачитывалось работами Антонио Негри. С одной стороны, меня тянуло к Негри, Патрицио Печи [один из лидеров Красных бригад — прим. ред.], всей этой марксистской философской и политической школе. С другой стороны, мне все время хотелось углубиться в очередной хорошо написанный роман. Лично меня всегда завораживали слова и язык, любой язык. К сожалению, я не выучила ни один язык так же хорошо, как свой родной, и Ахматову до сих пор не могу свободно читать на русском.
Расскажите, пожалуйста, как вы выбрали университет и направление учебы после лицея? Вы ведь советолог по образованию, не самый очевидный выбор.
Это был конец семидесятых, очень тяжелое время для Италии из-за Красных бригад, терроризма, и я в то время словно разрывалась между двумя полюсами: моя мать — католичка, а отец — коммунист, вот в такой среде я росла. С одной стороны, у меня развилась страстная любовь к классическому искусству и литературе, красивому чтению. А с другой стороны, я была активистка. И это раздвоение, по всей видимости, продолжается на протяжении всей моей жизни.
Важно понимать атмосферу того времени. Политическая ситуация у нас сильно обострилась, когда Энрико Берлингуэр, лидер Итальянской коммунистической партии, в которой состоял мой отец, решил отделиться от Коммунистической партии Советского Союза и двинуться в сторону еврокоммунизма. Намечалась настоящая революция, ИКП была широко представлена только на муниципальном уровне, а Берлингуэр принял решение вступить в союз с правящей Христианско-демократической партией, чтобы поднять ИКП на государственный уровень. Правящая партия была инспирирована церковью и объединяла итальянский католический народ — но, как ни прискорбно, все партии становятся инструментами власти, и от христианства у них было только название. Берлингуэр понял: чтобы чего-то добиться, нужно начинать с ними диалог, а не просто вступать в бесконечные конфронтации. Это тоже очень важный момент в моей жизни, потому что я слышала все это, чувствовала, что люди старше меня, люди из окружения моего отца, выступают за начало диалога, но мое поколение не было готово к нему. Я находилась все время посередине, потому что принадлежала и к политическому миру ИКП, который я видела у себя дома, и к своему поколению. В тот момент, когда мне нужно было выбирать университет, я находилась между двумя огнями, предстояло определиться: отдаться прошлому или сосредоточиться на настоящем и будущем. Что меня больше всего интересовало? И хоть я понимала, что классика — это не только прошлое, что можно ею пользоваться для того, чтобы понять настоящее и строить будущее, но, когда я приехала в Неаполь поступать в университет, у меня в руках были два набора документов. Один — для факультета археологии, а второй — для факультета политических наук. И моя мама до сих пор говорит, что это была борьба между матерью и отцом. Думаю, что именно в силу острых событий того времени выиграла политология. Победило желание разобраться в том, что происходит, желание лучше понять происходящее и принять участие во всем этом, и поэтому все, чем я занималась в университете, было связано именно с моим любопытством, которое я считаю своей личной религией. Человек обязан быть любопытным, должен хотеть знать, понять, принять участие. Мне показалось, что изучение археологии наверняка привело бы к отчуждению от других важных вещей.
1/2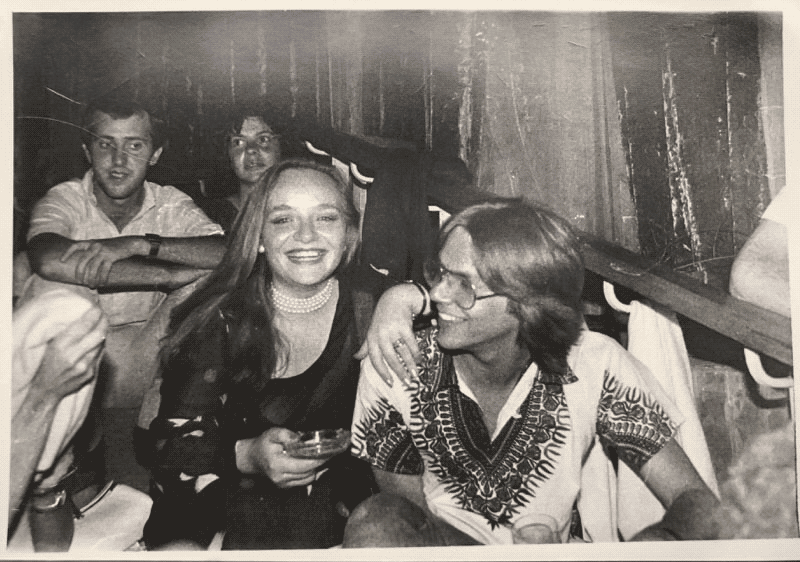 Тереза Мавика, начало 1980-х 2/2
Тереза Мавика, начало 1980-х 2/2  Тереза Мавика, начало 1990-х Фото: личный архив Терезы Мавики
Тереза Мавика, начало 1990-х Фото: личный архив Терезы Мавики Раз уж речь зашла о политике и терроризме в Италии семидесятых, задам вам вопрос, не имеющий прямого отношения к книгам. В России многие молодые люди идеализируют леворадикалов семидесятых — и Красные бригады, и РАФ, — но, насколько я понимаю, у представителей вашего поколения несколько иное отношение к ним. Как вы оцениваете эту ситуацию изнутри: они были настоящими классовыми борцами или просто террористами?
В 1978 году Красные бригады захватили председателя Христианско-демократической партии Альдо Моро, потому что они были против «исторического компромисса» между ней и ИКП. Они похитили и убили Моро, а также всех его охранников. Мне было в то время восемнадцать лет, и, когда по телевизору показывали трупы, меня это потрясло. До сих пор помню окаменевшее лицо его жены и ее слова, часто звучащие у меня в голове: о жизни и смерти Альдо Моро будет судить история. Это были очень тяжелые времена в Италии даже для такого маленького провинциального города, где я жила, в котором, возможно, все было еще более концентрированно из-за его чрезмерной буржуазности, консервативности. Я помню, мы в то время создали политический клуб (естественно, под названием «Че Гевара»), где сидели и мечтали о том, как бы достать из Рима оружие и захватить власть в городе. Все это имело какой-то романтический, литературный характер — идея захвата власти без какой-либо политической прагматики. Красные бригады похитили Моро, удерживали его долгое время и, в конце концов, убили — мой личный разрыв с этими радикальными идеями произошел как раз тогда. Альдо Моро был олицетворением возможности и необходимости диалога. Он был символом другой модели. Была объявлена война. Если бы в той войне существовала какая-то политическая прагматика, то следовало бы найти настоящего оппонента, но речь шла об ином — они хотели именно прервать диалог. А я верила в диалог и до сих пор в него верю. Убивая его, они убили возможность Итальянской коммунистической партии стать главенствующей, отняли у моей страны возможность другого будущего. Я понимаю, что для вас история Красных бригад выглядит как некий миф. Вы на нее смотрите под иным углом. Так же и для меня позднее грандиозным мифом были Горбачев и перестройка — хотя в России многие отрицательно смотрят на это время. Я не считаю, что Тони Негри был террористом, скорее он был плохим политиком, который недооценил силу слова. Не думаю, что он хотел убивать людей, но это случилось. История однозначно показала, что он и его последователи стали инструментом для других целей. Как бы то ни было, страна не была готова к такому, не смогла воспринять тот язык. Поэтому мое поколение очень фрустрированное. Я родилась в шестидесятом году, слишком рано для того, чтобы героически принять участие в революции 1968 года, и в какой-то мере события 1978-го стали нашим 1968-м. Но они приобрели другой масштаб, какой-то свой уникальный звук. Это очень печальные события, серьезно изменившие мою страну.
В событиях того времени какие-то книги сыграли значительную роль?
Конечно, мы читали Антонио Негри, Патрицио Печи, Массимо Каччари, Альберто Азора Розу. Читали в основном публикации в философских журналах того времени (Quaderni Rossi, Classe Operaia), которые эти круги издавали. Одновременно мы увлекалась «красивым» чтением книг Ролана Барта. Мне нравилась его любовь к словам, увлекала рафинированная элегантность его текстов и интриговала его способность находить баланс между политической критикой и академической. Он умер в 1980 году, не доехав до Стендалевского конгресса в Милане!
Давайте вернемся к вашей учебе в университете. На факультете политических наук вы выбрали кафедру советологии — что она из себя представляла? Как и что вы изучали, какую литературу приходилось читать?
В Неаполе два университета: один вроде вашего МГУ, и еще очень старый университет под названием Восточный (Л’Ориентале), где преподают восточные языки и востоковедение. В какой-то момент там образовалась новая кафедра политологии, которая сперва предназначалась для тех, кто хотел делать дипломатическую карьеру. С другой стороны, образование там было похоже на журналистское: студентов учили разбираться с текущей ситуацией путем изучения прошлого, сравнения институциональных систем разных государств и так далее, то есть обучали скорее правильному использованию аналитических инструментов. А за несколько лет до моего прихода там открыли еще одну кафедру, узкоспециализированную, — как часто случалось в Италии и было связано с тем, что в университет пришел определенный профессор. Так появилась кафедра по изучению социалистических стран. Евросоюза тогда не было, и социалистические страны в то время казались новой Америкой. На карте мира это выглядело так: Америка, потом мы — маленькие разрозненные европейские государства — и огромный блок социалистических стран, с которым мы, близкие соседи, должны каким-то образом осуществлять диалог. Мне это было интересно уже в силу истории моей семьи. Если сложить все элементы моего рассказа — семья, история страны и так далее, — то решение поступать на советологию покажется вполне закономерным; тем более что там была преподавательница, которая стала потом моим тьютором: Рита Ди Лео, интеллектуал, довольно важный тогда для моей страны и моего поколения. В то время существенную роль играли периодические философские издания левой направленности, о которых я уже упоминала, а Рита работала с Альберто Азором Розой в группе, издававшей марксистский теоретический журнал «Quaderni Rossi» («Красные тетради»).
 Журнал «Красные тетради»
Журнал «Красные тетради»Людям, поступившим на эту кафедру, были интересны не те курсы, где сравнивали русскую литературу с итальянской, например, а те, где сравнивали конституции разных стран. Мне кажется, что моя группа в университете была единственной в мире, досконально изучавшей вашу конституцию 1977 года. На самом деле, это уникальная история: мы настолько подробно ее изучали, что наше отделение решило даже выпустить маленький русско-итальянский юридический словарь (издание с тиражом сто экземпляров, у меня оно до сих пор осталось). Для нас это стало инструментом, позволившим вникнуть в мельчайшие детали. Причем мы занимались не только Россией — очень внимательно изучали, например, Болгарию. Если я ничего не путаю, в 1985 году Горбачев произнес в Хабаровске речь, которая ознаменовала начало перестройки, и в то же время активно работала школа экономистов в Новосибирске, где развивалась идея о децентрализации экономики, откуда потом вышли ваши либеральные реформаторы. Мы тогда обо всем этом знали и изучали их труды.
Все, что касалось советского блока, тогда исследовалось и в США. Мы, занимаясь этим в Неаполе, поддерживали связь с Америкой, оттуда к нам приезжали профессора. Мы читали тексты Джерри Хафа и его жены Шейлы Фицпатрик — и казалось, что Америка намного ближе к Италии, чем социалистические страны. Это важно в плане того, как история, политика, культура и литература порой, можно сказать, переписывают географию. Когда в 1982 году меня пригласили на практику в Болгарию, мама со мной прощалась: ей казалось, что меня увозят куда-то в неизвестность. Про Болгарию первый раз в Италии услышали только в 1981 году, когда прибывший оттуда турецкий террорист Али Агджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Мы изучали советский мир как другую вселенную, которая находится непонятно где, а исследовали мы ее в первую очередь для того, чтобы понять, как устроены мы сами, выбравшие другой путь.
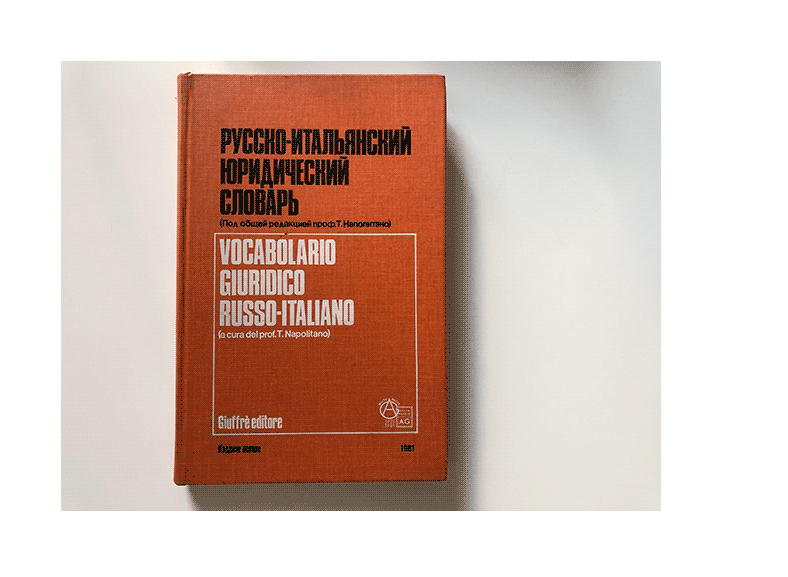
Русско-итальянский юридический словарь, изданный тиражом 100 экземпляров
Фото: личный архив Терезы Мавики
Социолог Георгий Дерлугьян писал или рассказывал где-то о двух направлениях в американской советологии — традиционном и ревизионистском. Представители второго направления вроде той же Шейлы Фицпатрик изучали главным образом «низовую» советскую историю, а представители первого были не только и не столько учеными, сколько непосредственными участниками Холодной войны, пропагандистами (самый характерный пример — Ричард Пайпс). Было ли в Италии что-то подобное и сталкивались ли вы с этим, общаясь с американскими коллегами?
Сегодня я с уверенностью могу сказать, что мы не выполняли никакого политического заказа и изучали советский блок с настоящим желанием понять эту систему. Это было связано в том числе и с тем, что в нашем университете работали люди, которые так или иначе вышли из левой среды. В Италии многое зависит от университета: есть учреждения консервативные, коммерческие, а наш был чисто аналитическим. Еще один пример того, как культура меняет географию: когда я приехала в Россию, не зная заранее, чего ожидать от поездки, и начала жить в этой стране, что-то внутри меня перевернулось и помогло мне заново перечитать свою собственную культуру. Помню, когда я училась в школе, на уроках географии у нас была очень красивая книга, где каждая страна была раскрашена определенным цветом. Италия была зеленая, Франция синяя, какой-то цвет был у Югославии, а все что дальше на востоке — огромное однородное серое пятно. Можно четко осознать, как переписывалась история для моего поколения, тех, кто родился в шестидесятые годы — в период экономического послевоенного бума, который стал возможным «только» благодаря Америке. Американский месседж прошел через всю нашу культуру: через кино, журналы, через продажу образа счастливой жизни. Америка — синоним счастья, и все это продавалось одним блоком. В лицее изучение русской литературы было сокращено до минимума, и только благодаря отцу я читала Толстого, а в школьной программе его не было. Если ты хотел больше узнать о России, требовалось прилагать усилия, в то время как все остальное преподносилось готовеньким. Поэтому могу сказать, что в школе я была уверена: Европу от фашистов освободила Америка. Я немного гиперболизирую, чтобы вы составили себе правильный портрет того времени. Конечно, я не говорю о том, что мои соотечественники необразованны, — речь идет о том, как культура меняет восприятие географии. Мир можно изменить не только силой ракет, но и с помощью культуры — это очень важная для меня мысль.
Мне было примерно восемь лет, когда родители в первый раз отвели меня в кино, мы смотрели американский фильм «Доктор Живаго» (я потом пересмотрела его в Неаполе, в университете, когда мы изучали разные аспекты вашей культуры, вместе с «Историей Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»). Это была моя первая встреча с русской историей. В этом ужасном американском фильме, конечно же, не было ничего русского, даже актеров! Самого Живаго играл Омар Шариф, а Лару — Джули Кристи. В основе сюжета там история любви, на фоне которой ожесточенный и бессмысленный монстр революции разрушает все и вся, а бедные интеллектуалы страдают скорее не из-за самой этой революции, а из-за любви, которую невозможно реализовать. Сейчас я смотрю на все это критически, но меня, восьмилетнюю, поразила грандиозность тех событий, хоть они и были лишь фоновой историей эпического романа. По крайней мере, это дает некоторое представление о том, что и тогда Россия плохо справлялась с трансляцией информации о себе вовне.
Вы говорите, что во время учебы глубоко погрузились в советскую конституцию, изучали работы наших будущих либеральных реформаторов — но при этом вам не читали лекций об Ахматовой, которая побудила вас учить русский?
У нас на факультете художественную литературу не изучали, но я, как человек с некоторым литературным багажом, самостоятельно посещала лекции по русской литературе. Ее преподавала фантастическая женщина, Серена Витале, жена известного поэта Джованни Рабони, и на одной из лекций, на которые я ходила тайно, она рассказывала про Ахматову.
Почему тайно?
Потому что лекции были не у моего курса, я была незваным гостем на этих парах. Эта преподавательница рассказывала о поэзии Ахматовой, чудесным художественным языком которой я была просто заворожена. И это происходило в то самое время, когда в моей группе читали конституцию 1977 года, учебники по праву, управлению и администрированию, книги юриста Юрия Тихомирова, о существовании которого многие и в России не знают. Я постоянно имела дело со специфическим профессиональным русским языком, сильно резонировавшим с тем самым огромным серым пятном, которое я видела в школьном учебнике по географии. И тут я попала на лекции по русской литературе, которые, наверное, заполняли во мне пустоту, оставленную «Доктором Живаго».
Потребность в литературе и любовь к поэзии всегда сплетались у меня со стремлением к аналитике. Я рассказывала о том, что папа читал нам стихи. У него была книга, которая называлась «Русские поэты революции», он нам ее читал, еще когда мы были маленькими (конечно, на итальянском). Так я познакомилась с Маяковским, Есениным, Пастернаком. Потом в какой-то момент в Италии они стали очень популярны в массовой культуре. Случилось, что один известный исполнитель, Анджело Брандуарди, в 1975 году записал песню на стихотворение Есенина «Исповедь хулигана». Когда мне было пятнадцать лет, все вокруг напевали эту песню. И я вспоминала это и другие стихотворения из «Русских поэтов революции» и постоянно к ним возвращалась. Книга оставалась внутри меня, я впитала этот миф о революции и обозначила для себя контуры ее слабости. Вот еще один момент, кажущийся мне очень важным, потому что модель, которую я пытаюсь сейчас развивать, занимаясь делами нашего фонда, берет начало именно оттуда. Я все время говорю, что, глядя тогда на отца, понимала: у политики очень короткое дыхание. Политика — это про здесь и сейчас. Но мне в этих рамках всегда было тесно. Мне не хватает масштаба. Здесь и сейчас интересно, только если ты смотришь дальше. А длинное дыхание проходит через всю культуру, поэтому я настаиваю: «Давайте построим музей ГЭС-2, в который смогут прийти все, где все дисциплины будут взаимодействовать друг с другом, где мы сможем говорить о культуре и политике». Нечто подобное описывает в своей исчерпывающей книге «Партиципаторный музей» Нина Саймон. Рекомендую ее всем, кто занят в культурных институциях и не только. Партиципаторный музей — живое и открытое пространство соучастия с наделением посетителей истинной свободой и возможностью выбора. Такой музей — мерило для ГЭС-2.
Понимаете, все, о чем мы с вами говорили, возвращается. И это действительно та читательская биография, которую я вижу во всем, что делаю.
И все это уходит корнями в лицей с переводами с латинского на греческий, в Данте и Хаузера?
Видимо, да, так оно и есть.
Насколько я знаю, когда вы перебрались в Россию и через какое-то время начали работать в сфере искусства, вы также начали общаться с художниками-концептуалистами, многие из которых в то же время являются довольно крупными писателями. Что вы думаете, например, о литературном творчестве Андрея Монастырского?
Хотя мне до сих пор не даются на русском стихи Ахматовой, но, как бы странно это ни прозвучало, я без проблем читаю книги Монастырского, моя первая встреча с ним состоялась именно посредством его поэзии. Моя дочь даже учила наизусть стихотворение Андрея для урока русской литературы, за что чуть не была изгнана из школы — вероятно, поэзии концептуалистов еще следует пройти значительный путь, чтобы получить признание в российских школах.

Тереза Мавика и Андрей Монастырский
Фото: предоставлено автором
В России, да и вообще в мире, в последние годы очень популярны «неаполитанские» романы вашей соотечественницы Элены Ферранте, «Горький» не раз писал о ее книгах. Как вы относитесь к этому литературному феномену?
Я читатель с раздвоением личности: с одной стороны — итальянские философы и политические деятели, с другой — признанные классики с «красивым» чтением и большими романами. Эта раздвоенность, как мне кажется, является родовой приметой моего поколения, у которого было обязательное чтение и литература-отдушина. Из «надо» был, например, Антонио Негри, довольно сложное чтение, и не из-за содержания (будем говорить прямо, Негри попросту плохо писал). Тот же Барт — другое дело. У него красота слова соединяется с ясностью мысли, выраженной глубоко литературно. Он как раз ближе всех из современников к большой литературе. Ферранте — об этом же. Ферранте, Ориана Фаллачи... Таких авторов мы в Италии называем «легкой рукой», это писатели — мастера слова. Ее «Неаполитанский квартет» захватил меня по разным причинам. В первую очередь, конечно, потому, что он про Неаполь. Про самую его суть, культурный код, про его человеческое лицо, отношения, драмы, интриги. При помощи маленьких историй Ферранте пишет большую, и, если честно, я не уверена, что она до конца справилась с этой задачей. Поэтому я немного критично отношусь к ее повсеместной популярности и не до конца понимаю причины ее глобального успеха. Мое очарование романами Ферранте — романтическое, сентиментальное, она описывает все то, что мне так хорошо знакомо, среду, в которой я выросла, а почему это нравится вам, я, честное слово, не понимаю. Я списываю это на то, что книги Ферранте хорошо, красиво и легко написаны, и поэтому нравятся всем.