«В самой попытке перевода старой китайской поэзии заложена ловушка»
Синолог Илья Смирнов о китайской классике, каноне и русских переводах
Изображение: РГБ
В конце ноября — начале декабря в Москве проходит «Биеннале поэтов», посвященная в этом году Китаю, с ее программой можно ознакомиться тут. «Горький» поговорил с одним из участников биеннале, Ильей Смирновым, синологом, исследователем и переводчиком китайской поэзии. Мы выяснили, почему на русском языке до сих пор не существует корпуса классической литературы Китая, в чем проза китайцев уступает поэзии и почему так сложно переводить на русский слабые китайские стихи.
В одной из лекций вы сказали, что корпуса китайской классики на русском языке, по сути, не существует, хотя очевидно, что и вами, и вашими коллегами проделана большая работа, издано множество переводов и так далее. Как получилось, что такая значимая национальная литература малодоступна русскому читателю?
Это очень сложный вопрос. Будем говорить о классической поэзии, потому что современная китайская поэзия до последних тридцати-сорока лет, когда возникло новое представление о поэзии в Китае, была малоинтересной, политически ангажированной и подражательной. Китайская классика, напротив, безумно увлекательна; но у меня есть стойкое ощущение, что достаточно длительный период, в течение которого пытались переводить разных китайских поэтов на русский язык, завершился без особого результата. Я не пытаюсь осудить своих предшественников и коллег, просто оцениваю совокупный итог наших трудов. Я имею в виду общее ощущение, связанное, вероятно, с тем, что сам я с годами, как мне кажется, стал лучше понимать китайскую поэзию. Это лишь крохотный шаг к подлинному пониманию, которое мне, видимо, уже не обрести, однако даже такие знания поставили под сомнение успешность перевода китайской поэзии на русский язык.
В числе причин есть внешние обстоятельства. Например, китайская поэзия, как и всякая другая, состоит из репутаций — существуют поэты гениальные, великие и рядовые. Естественно, когда европейцы стали знакомиться с китайской поэзией, они схватились за лучших. Ну а кто будет переводить поэтов, не относящихся к первому ряду? Это как будто бы правильно, но в Китае другое соотношение великих и невеликих поэтов, оно не настолько ярко выраженное, как в европейской и русской поэзии. Хотя, может быть, в русской поэзии не совсем так из-за ее исторической сжатости, быстрого развития на тесном временном пространстве: Пушкин, Баратынский, Тютчев, Фет, даже те, кто еще реже упоминается, Батюшков, все равно поэты очень крупные. В Китае другая ситуация. Вообще средневековый социум устроен так, что человек становился самим собой, только если встраивался в ряд предшественников и ощущал себя в свою очередь предшественником того, кто придет ему на смену. Результатом этого ощущения стало такое явление — в старом Китае очень распространенное, — как культ предков. Как глубоко мы знаем наших предков? Хорошо, если кому-то повезло и он знает прадедушку. У последних поколений есть исторические обстоятельства, которые сделали для многих это невозможным — были обрублены все корни. Но даже если забыть о катастрофах XX века, кроме аристократических, дворянских родов, никто не интересовался родословной, а в Китае крестьянин мог вполне знать тридцать-сорок поколений своих предков. Непременной принадлежностью его селения было родовое кладбище c семейными могилами до какого-нибудь «–надцатого» колена. И поэт тоже жил в каком-то смысле в поэтической семье, он не начинал с нуля, даже если чувствовал себя новатором. Поэт Нового времени приходит и говорит: я новый, я поведу вас за собой туда, где вы никогда не были. Отсюда желтая кофта Маяковского, цветочки на щеках у Бурлюка… Поэты давали понять, что их творчество так же необычно, как их поведение.
Это ведь плоды романтической эпохи, до нее европейская культура была гораздо более традиционной.
Конечно. Средневековый творец совсем по-другому смотрит на свое творчество: поэт Нового времени, независимо от того, романтик он или символист, идет вперед и в отношении формы, и в отношении содержания, а средневековый говорит: все уже было, я просто поворачиваюсь вспять и пытаюсь актуализировать то, что забыто или плохо прочитано. Поэтому когда начинаешь переводить поэта с таким отношением к творчеству, попадаешь в тупик, ведь он-то встроен в этот ряд, живет в поэтически длящейся традиции, а ты его из нее вырываешь и переводишь на язык, в котором такой длительной традиции нет. Европейская традиция не вполне наша: у нас были Тредиаковский, Державин, Пушкин, нельзя же в переводе на русский язык отсылать читателя даже к Шекспиру, не говоря уже о более ранних средневековых поэтах. Поэтому в самой попытке перевода старой китайской поэзии заложена ловушка.
Еще важно то, что китайская поэзия по ряду исторических причин (тут речь о моих наблюдениях и гипотезах) с самого начала считала достоинством ни о чем не говорить впрямую — смысл должен всегда стоять за словом. И с первых стихов, вошедших в канонический памятник, который называется «Канон стихов», или «Канон поэзии», тексты сопровождались толкованиями, которые подчас меняли их смысл на противоположный. В VI–V веке до н.э. великий китайский Учитель, человек, которого в латинизированной форме называют Конфуций (на самом деле он был Кун-цзы, Учитель Кун), первым, пожалуй, в отчетливой, внятной форме стал переосмысливать стихи таким образом, чтобы сделать их нравоучительными текстами. Причем его толкование полностью уходило от того смысла, который считывает непредубежденный человек, даже не очень хорошо знающий старый язык. Почему ему это удалось, откуда появилась эта идея, если не считать его собственных представлений о том, что мир можно исправить? Мир ведь ухудшился с древности, когда все было хорошо устроено: замечательный государь, народ, полная гармония. Потом из-за того, что человеческая природа несовершенна, все стало постепенно ухудшаться. И главная идея Конфуция заключалась в том, чтобы оставшиеся книги, летописи, собрания документов, в том числе и «Канон поэзии» (отбор большого количества текстов для него, вероятно, произвел сам Учитель), свидетельствовали о древности и о нормах жизни — тогда у людей будет пример и они смогут, следуя примеру, если и не подняться до высот древности, то во всяком случае привести свое поведение и мироощущение в соответствие с древними представлениями. Он исправлял летописи, вводя в них более жесткие моральные характеристики, и начал перетолковывать стихи. Думаю, в частности, дело в том, что к тому времени в Китае существовала очень развитая традиция гаданий. Гадали абсолютно на всем: одними из первых были гадания на панцирях черепах, по стеблям тысячелистника. Идея о том, что правду можно извлечь из гадательной процедуры, была очень значима для китайской древней традиции. Неслучайно один из важнейших памятников, входящих в китайский канон, — знаменитый «Канон перемен» «И-цзин», он многим известен в замечательном переводе китаеведа Юлиана Щуцкого. Модель извлечения смысла по гаданиям, на мой взгляд, вполне совпадает с моделью извлечения смысла из художественного текста посредством интерпретации. Очень рано поэтический текст был окружен слоем толкований, причем далеко не произвольных, носитель традиции хорошо понимал их рамки и всегда ощущал их присутствие. Поэтому разного рода высказывания о том, что поэтический смысл таится за строкой, проходят буквально через всю китайскую поэтическую традицию.
То есть речь идет о внутреннем смысле стихотворения, который сложно оторвать от контекста и перенести в другую культуру?
Да. Появилось даже такое выражение, как «таящееся накопление»: имелось в виду, что за то время, за которое поэтическое высказывание (а цитирование было очень распространено) переходило от одного поэта к другому, смысл копился в нем, обрастал множеством ассоциаций, расширялся. Такое высказывание вовсе не обязательно должно быть каким-то замысловатым, заведомо сложным: внешне китайская поэзия довольно проста — и на это, кстати говоря, покупаются многие читатели и переводчики. Потому что если мы соберем сто любителей китайской поэзии и спросим их, о чем она, я думаю, большинство скажет, что это поэзия пейзажа, лунной ночи, лодки, озера, реки, звона колокола и так далее. Именно это мы и переводим, это и читают на русском уже со второй половины XIX века в лучших или худших переводах. Иными словами, русские переложения китайской классики — это такая череда внешне верных подобий оригиналов, но без той глубины, которую во все времена ценили в поэзии китайские знатоки. И никакие комментарии не спасают дело. Пробовал и я сам в книге «Яшмовые ступени» 1989 года сопровождать переводы некоторым количеством стихотворений других поэтов, расширявших понятийное поле исходного стихотворения. Только вряд ли кому-то под силу соперничать с памятью средневекового китайца, знавшего десятки тысяч стихотворных строк. Сейчас, правда, после оцифровки множества стихотворений, это сделать гораздо проще, но для переводчика задача не слишком облегчилась: вряд ли кому-нибудь удастся натолкать в четыре строки все обнаруженные смыслы. Впрочем, кто знает — может, такой виртуоз и появится…
Современные китайские читатели вряд ли в сильно лучшем положении, чем иноязычные. Они не начитаны в китайской поэзии, они не знают ее наизусть: основа китайского образования была в заучивании наизусть как можно большего количества текстов канона, поэтических сборников и т. д. Раньше поэт вынимал цитаты из памяти, причем без усилия, автоматически. Мы плохо знаем, как именно это происходило, но по всему чувствуется, что в этом и заключалось во многом наслаждение от чтения поэзии — извлечение спрятанных за первым планом смыслов. Поэтому само стихотворение могло быть адресовано и профану, в роли которого выступаем мы, видящие только внешнюю сторону. А как передать внутреннюю сторону — это большой вопрос, который до сих пор не разрешен, и я даже не уверен, что у него есть внятное решение.
Есть более частные вещи. Например, в Китае распространены сборники-антологии, где поэт попадает в очень важное окружение. Причем, в отличие от европейской традиции, где принято отбирать лучшее, китайская антология представляет весь поэтический ландшафт. Поэтому если вы открываете антологию определенного времени, вы можете понять, какой была поэзия во всем своем многообразии, от величайших удач до глубинных провалов. Причем вам никто не давал никаких комментариев на этот счет, никто не писал: посмотрите, вот этот поэт гений, а этот не очень-то. В послесловии могли намекнуть, но чаще всего читателю о предпочтении составителя давал знать состав. Один поэт был представлен обильно, а другой — одним или двумя стихотворениями. И опытный читатель (а других тогда и не было: у читателей, поэтов и составителей антологий было одинаковое образование), моментально улавливал, кто крупный поэт. И это тоже пропадает в переводе, потому что русский читатель не понимает таких градаций, скорее он будет думать: этого переводил такой-то переводчик, а этого — другой. Он подумает, что я, как составитель, предпочитаю переводчика, а не поэта: ага, вот Смирнов предпочитает стихи, переведенные без рифмы, поэтому он берет такого переводчика. Или он подумает (это очень распространенная точка зрения): Смирнов отбирает переводчиков, которые владеют китайским, а тех, кто с подстрочником работает, он не берет. Возможно, отчасти так и есть, хотя на деле, конечно, не это главное.
А переводы с подстрочника хуже переводов с оригинала? И можно ли как-то приблизиться к решению указанной вами проблемы?
Уровень перевода китайской литературы с подстрочников в России совершенно не позорный. Есть национальные литературы, достаточно крупные, где переводы с подстрочников никуда не годятся, хотя общий уровень перевода был в Советском Союзе довольно высокий из-за того, что крупные поэты занимались переводами. Но нужно подчеркнуть, что некоторых важнейших особенностей китайской поэзии не видно в русских переводах — сколько ни прочитай, от первого перевода до последнего, не так их много. Сейчас это число бурно растет из-за интернета, там попадаются более удачные, менее, но, как правило, все они страдают какой-то скороспелостью, встречаются вполне добротные работы, но каких-то прорывов, нового качества не видно. Впрочем, в самом росте количества переводов — возникает русский контекст китайской поэзии с внутренними перекличками, отсылками, ассоциациями. Это замечательно.
Михаил Леонович Гаспаров, который был не только великим филологом, но и выдающимся переводчиком и много думал над тем, как переводить, выработал некоторые, я бы сказал, математические критерии точности перевода: сколько значимых, имеющих внятное содержание слов оригинала воспроизведено в переводе. И, в общем, этот критерий как будто бы бесспорный, но только если дело не касается актуализации смысла, стоящего за словом. Потому что воспроизведение возможно большего количества слов оригинала — это вопрос, во-первых, хорошего понимания текста, а во-вторых, версификационной техники. А как быть со смыслом, который за словами, — это уж бог весть. Правда, тот же Михаил Леонович высказал оригинальное соображение и даже претворил его в переводческой практике. Гаспаров сказал, что во многих европейских стихах главная поэтическая мысль окутана аурой малозначимых слов. Это может быть следствием поэтической традиции — например, романтической, в которой все очень общо и неконкретно. А что если в русском переводе убрать все лишнее и дать читателю некий поэтический дайджест? Свои опыты он собрал в книге «Экспериментальные переводы», кому-то они кажутся убедительными, кто-то горячо их отрицает.

Мне кажется, что для китайской поэзии возможен обратный ход: не отжимать (она и так достаточно краткая), а, наоборот, расширить перевод, включив в него некоторые объяснения. Любопытно, что переводчики Егорьев и Марков, подготовившие «Свирель Китая» —первый сборник китайской поэзии на русском языке (он вышел в начале XX века), — примерно так и действовали: китайское четверостишие превращалось у них и в двадцать, и в тридцать русских строк. В перевод включались объяснения, но то ли переводчикам таланта не хватило, то ли чувства меры — у них не получилось. Они стихотворение в двадцать иероглифов превращали в короткую поэму на сто с лишним слов — плохо понимали китайский оригинал, видимо, работали не с китайским текстом, а с какими-то европейскими версиями, набитыми отсебятиной. Поэтому у них лаконичное китайское произведение становилось трактатом с кучей произвольных добавлений. Но как знать, вдруг появится какой-нибудь сверхталантливый Гаспаров, ужимавший стихи Верхарна до поэтического резюме, порой с замечательным результатом, который сумеет с китайским стихотворением в русской версии произвести обратную процедуру, то есть даст читателю представление о том, что стоит за строкой. В моем пессимистическом взгляде нет безнадежности, все бывает. В конце концов, если говорить о прогрессе оригинальной поэзии было бы, по крайней мере, сомнительно, то поэтический перевод, конечно, становится все совершеннее, для меня это бесспорно. Конечно, некоторые опыты хуже предшествующих, но, как правило, и даже не очень понятно почему, стихотворческая технология улучшается. А это очень важно для перевода, он становится более техничным.
Может быть расскажете о заслуживающих внимания примерах переводческой работы?
С китайской поэзией очень тяжело, потому что всегда получается или перелет, или недолет. Или вы размазали сконцентрированный смысл, даже если соблюдены формальные приметы (количество слов, строк), или, наоборот, подзажали так, что возникла некая скованность. Например, выдающийся переводчик Аркадий Штейнберг перевел по подстрочнику великого китайца Ван Вэя. Это один из самых поразительных по «качеству» (во всех возможных кавычках) переводов на русский китайской поэзии. С огромным успехом он читал эти переводы и никогда не говорил, что переводит: он говорил, что перелагает, а переводчиком в книге его переложений назван прекрасный китаист Валерий Сухоруков, который делал подстрочники. Но сейчас, по прошествии времени, мне кажется, что переводы Штейнберга — странно, что это воспринимается как недостаток — излишне виртуозны. Они с точки зрения версификации поразительны: ему удавалось напихать в короткое стихотворение почти все, что содержал в себе подстрочник (естественно, не стихотворный), и все то, что исходно содержал в себе первый план оригинала, — иногда просто поражаешься, это какой-то цирковой фокус. Мало примеров русских переводов, в которых с такой точностью отражался бы оригинал. Мне приходит в голову цветаевский перевод «Плавания» Бодлера, где просто феноменально сохраняются все формальные признаки и вместе с тем высочайшая поэтичность и пронзительность оригинала. Я не специалист во французской поэзии, но перевод Цветаевой меня убеждает. В переводах Штейнберга вроде бы тоже самое, но чуть более блестяще, чем, мне кажется, есть в оригинале, а китайская поэзия вся вообще несколько притушенная, пресная. Недаром говорилось, что сердце мудреца и, следовательно, сердце поэта должно быть как остывший пепел. То есть ты берешься за творчество уже тогда, когда в тебе эмоция перегорела. А мы считаем, что нужно создавать все на пике эмоций. Поэтому мне кажется, что и самые удачные переводы, и менее удачные, и совсем неудачные не дали русскому читателю верного представления о старой китайской поэзии.
Еще один эпизод связан с китаистом Алексеевым — он не считался (и сам себя не считал) поэтом, но на меня его стихотворные переводы производят гипнотическое действие. Я вижу одновременно и решетку китайского стиха, и вставленные в нее русские слова, которые поразительным образом оказываются прозрачными, и ты сквозь них видишь китайское стихотворение. Хотя многие их совершенно не воспринимают: говорят, что это подстрочник, да и дурной к тому же. Алексеев гениально переводил китайскую прозу Пу Сун-лина; мне казалось, что никто не будет спорить с этим, но и здесь столкнулся с тем, что многие его перевод не принимают. Алексеев немного перевел, так сложилась жизнь. Может быть, переведи он больше, он бы нащупал при своей гениальности более надежные пути. А в остальном я одни переводы люблю, другие мне нравятся меньше, но это все вкусовщина. Так что речь идет не о недостатках, а о фундаментальном зиянии русских версий.
То есть речь идет о настоящем культурном разрыве.
Да, сейчас это называют «трансляцией культуры». Как одна культура переходит в другую, какие вообще есть возможности для объяснения чужой культуры? Тут, естественно, комплекс проблем, но легко понять из житейского опыта, что далекая культура, построенная на совсем иных основаниях, транслируется хуже. Хотя тот же Штейнберг, который вырос в Одессе и говорил, кроме русского, на украинском как родном, всегда объяснял молодым переводчикам, что с близких языков переводить еще труднее, потому что они подсовывают смыслы, казалось бы, лежавшие на поверхности. И ты хватаешь смысл, который тебе подсунул тот же украинский, но оказывается, что это то, да не то: окраска совершенно другая, и поэтическое содержание, которое зависит от малейших оттенков, радикально изменилось. Не открою никаких Америк, если скажу, что перевод — труд сложный, неблагодарный, и никогда нельзя предсказать результата. Например, японцы пошли по замечательному пути: они любое произведение, даже очень пространное, вроде «Войны и мира», переводят по многу раз. Никогда не слышал, чтобы они рассуждали о трудностях перевода, но, видимо, в каком-то скрытом виде понимание того, что один перевод вряд ли исчерпает глубину большого и значимого иноязычного произведения, в них живет, поэтому они хотят окружить переводами оригинал. И читателю, которому позарез нужно будет во все глубины погрузиться, дают возможность прочитать множество версий. Это касается гигантских произведений — Пруст, Достоевский и так далее. Правда, к поэзии, по-моему, это не относится, но я могу ошибаться. То же самое и с китайцами: как они ни подступались к русской поэзии, да и к прозе, выходит плохо. «Евгения Онегина» китайцы и так и эдак пытались переводить, но там есть вещи, которые китайцу нельзя объяснить. В традиционном Китае были другие взаимоотношения между мужчиной и женщиной, поэтому им просто непонятен конфликт, он – за гранью понимания, сколько ни объясняй. И нам-то многое уже не очень понятно без комментариев Лотмана или Набокова; сама нужда в комментарии к произведению первой половины XIX века уже говорит о сложности проблемы даже для носителей языка, культуры и традиций. Мы нуждаемся в объяснениях даже сравнительно простых бытовых деталей, а уж с глубинными культурными смыслами совсем беда.
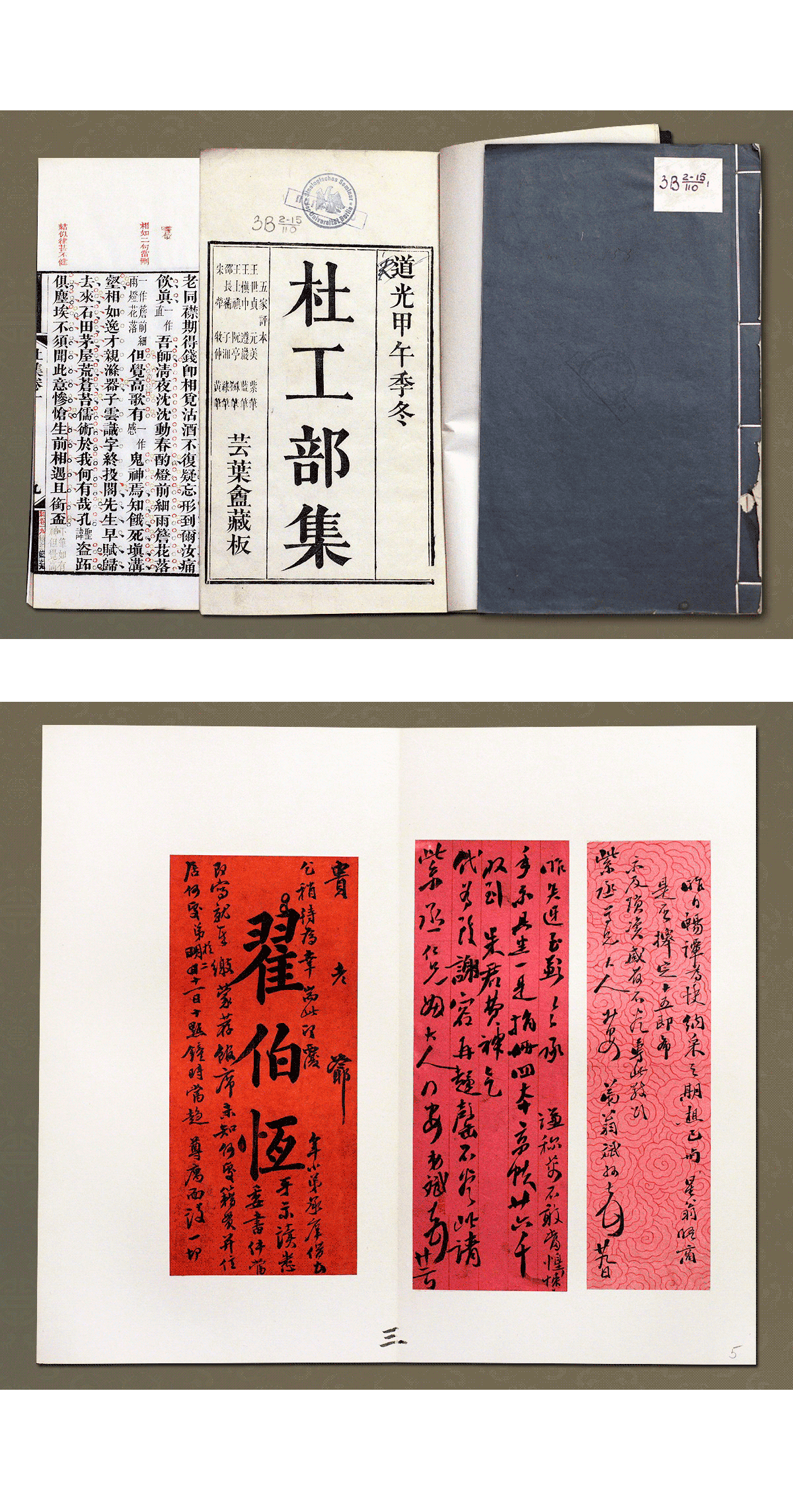
Недавно на русском вышла книга «Западный канон» американского литературоведа Гарольда Блума. В ней канон выстраивается на антагонистических основаниях; по мысли автора, его величие обуславливается тем, что самые крупные авторы все время борются со своими предшественниками, но при этом Блум включает в канон не так много писателей. Судя по вашему рассказу, с китайским каноном противоположная картина: отношения между авторами иные, но при этом крупных фигур гораздо больше. То есть он как будто более продуктивен для культуры?
Понимаете, Блум использовал слово «канон» в ином смысле, как метафору для некоего набора художественных произведений или авторов, которые обладают некоторой художественной бесспорностью, влиятельностью, оппонируя противоположной точке зрения, согласно которой надо изучать не лучшее, потому что это всегда субъективный выбор, а более-менее среднее, и тогда начнет проясняться общая картина. В случае китайской культуры я говорю об исходном значении слова «канон», то есть о маленьком наборе текстов или одном тексте, который определяет основные свойства данной культуры — то, что метафорически (но, кажется, уже и терминологически) называют «картиной мира». Таковы главные тексты традиции, а не то что вы выберете одно, а я другое, как в случае набора Блума.
Что такое канон европейской христианской культуры? Библия. Что такое канон мусульманской культуры? Коран. Вот в этом значении слова я и говорю о китайском каноне. Это исходно шесть текстов (потом пять), которые почти все имеют жанровый определитель, «цзин», обозначающий основу ткани, то есть те нити, которые первыми натягиваются на ткацкий станок. Вот эти «цзины» и есть китайский канон. (Библия тоже состоит не из четырех книг Нового завета, но из довольно значительного набора текстов, типологически, кстати, очень похожего на состав китайского канона).
Пример с Блумом, на мой взгляд, работает только для Нового времени, когда появилась относительная свобода выбора, а в Средневековье никакого канона, кроме религиозного, быть не могло. Потому что любой человек, который делал шаг в сторону от Библии, становился еретиком. И в Китае были так называемые «утковые» книги, то есть не «цзины» — основа всего, а, так сказать, уток ткани [уто́к — нити, идущие поперек основы и вплетающиеся в нее — прим. ред.] — книги, которые были за пределами канона. Их называли на европейский манер еретическими, что вряд ли верно, поскольку главные китайские вероучения мало похожи на ортодоксию. Вообще в Китае только буддизм может с определенностью считаться религией, хотя в китайской версии он во многом утратил свои яростно-религиозные приметы. Долгий этот экскурс только для того, чтобы сказать: книга Блума замечательная, но она немножко о другом.
Вы как-то сказали, что для китайской традиции поэзия более значима, чем проза. С чем это связано?
Речь шла о художественной прозе, потому что проза документа, историческая проза стояла необыкновенно высоко. И даже первые беллетристические опыты были связаны с историческими событиями, их пытались художественно интерпретировать. Коротко говоря, китайская сюжетная проза располагается на пространстве между историческим фактом и самой буйной фантазией.
Кроме того, в Китае очень поздно появилась проза сколько-нибудь крупной формы. Роман — очень поздняя форма, хотя он довольно разнообразный, но все-таки вершин европейского психологического романа или некоторых произведений японской прозы не достиг (опять-таки, на мой взгляд). Хотя новеллы Пу Сун-лина, которого я упоминал в связи с переводами Алексеева, блестящи, стилистически изощренны, остроумны и свидетельствуют о таком глубоком понимании мира, что дай бог всякой прозе. Но в Китае так сложилось, что эпоса, ни поэтического, ни прозаического, очень долго не существовало, а почему — твердо никто сказать не может, одни догадки.
А четыре великих китайских романа эпосами не считаются?
Они очень поздние. Роман «Троецарствие», конечно, эпическое произведение, но он появился только в ХV веке, завершая, правда, длительную сказительскую традицию. И это все-таки немножко не то, не высокая словесность, а периферия литературы, ее, так сказать, массовый сегмент. А поэзия — она для избранных, для ученого сословия. Как и «высокая» проза — бессюжетная, стилистически безупречная.
Интересно, что ранняя занимательная проза, особенно городская повесть, буквально насыщена стихами, авторы ее словно бы еще не умеют выражаться прозой. Вот, положим, начинается рассказ. Некий персонаж идет по дороге, навстречу ему незнакомец; его нужно описать, представить читателю. И тут прозаик немеет, он не в силах нарисовать портрет. Он переходит на стихи, и вот перед нами зримая картина — и внешность, и повадки, и платье. Попадется герою на пути дворец, автор снова переходит с прозы на стихи и виртуозно описывает башенки, скаты крыши, которая стремится к небу своими углами, резные перила и т. д. Такая попытка получить пропуск в высокую литературу, автор словно говорит: смотрите, я не только презренной прозой разговариваю, но и стихами умею.
Конечно, я не имел в виду, что мне не нравится китайская проза, есть замечательные средневековые повести, несколько сборников. Их много переводил недавно умерший мой университетский преподаватель Д. Н. Воскресенский, когда-то он позвал меня переводить вставные стихи. Это был интересный опыт, но к тому времени у китайцев стихотворный пропуск в высокую литературу уже стал ремесленным, поэтому возникла еще одна проблема — как переводить слабые стихи? Я тогда по молодости боялся, что после выхода книги скажут: ну понятное дело, просто человек не умеет переводить, вот и выходят такие низкопробные вирши. А они и по-китайски сильно так себе, но вполне мастеровиты, науку стихотворства китайцы освоили хорошо.
Есть выдающаяся китайская проза, и с ней такая же примерно проблема как и со стихами. Первый китайский историк Сыма Цянь написал огромную китайскую историю «Ши-цзи» — «Записки историка», или «Исторические записки». Два очень почтенных синолога взялись за ее перевод на русский язык, текст совершенно неподъемный — колоссальный объем, сложности понимания, жизни им не хватило, заканчивали работу по оставшимся черновикам синологи помоложе. Что сказать: все предприятие — истинный научный подвиг, полного перевода этого памятника нет ни в одной европейской культуре. Но если говорить о художественной стороне дела, все не так уж замечательно: главы из «Исторических записок» непременно входят в важнейшие антологии китайской прозы как образцы стилистического совершенства; русский перевод ни на что похожее даже не претендует. Научность и художественность не соединились под одним переплетом, мы не можем почувствовать, к примеру, поэзию китайских перечислений, китайских названий — так, как чувствуем их в гомеровской «Илиаде» («я список кораблей прочел до середины»). Нет культурной традиции, нет обаяния звука, много чего нет. И это очень грустно, потому что сама возможность перевести эту прозу «художественно» доказана опытом уже поминавшегося В. М. Алексеева. Он переводил китайское собрание лучших образцов художественной прозы, где были главы из Сыма Цяня, и сделал это так, что никаких сомнений в высочайших достоинствах этого выдающегося стилиста и быть не может. Но он-то имел дело с двумя-тремя главами (повторяю, Алексеев был, на мой вкус, абсолютным гением и как синолог, и как переводчик), а выдержал бы он такой тон и уровень на протяжении всех девяти томов? Поэтому да, на меня китайская проза, может быть, за исключением Пу Сун-лина, производит меньшее впечатление, чем поэзия.
Китайская словесность на европейский взгляд странно устроена: довольно поздно появился роман, где-то в XII–XIII веке возникла драматургия, театр, столь значимые, например, для индийской или греческой традиции. А в Китае по разным причинам театра в собственном смысле слова долго не существовало, родоначальник всего и вся Конфуций не жаловал лицедеев, однажды даже потребовал от государя казнить актеров, развлекавших гостей. Только когда Китай завоевали монголы и принялись утеснять чиновничье сословие, то есть тех, кто писал стихи и высокую прозу, буквально за одно столетие театр необыкновенно расцвел, прошел путь от рыночных развлекательных представлений — их-то завоеватели-монголы не опасались — до высокой драматургии и необыкновенно сложного, самобытного сценического действа. Китайский театр поразителен и тоже, как правило, не слишком понятен европейцам. Раздражают форсированные голоса, резкая музыка, которая, в сущности, даже не музыка, а эдакий многозвучный ритм для акробатических актерских партий. А китайцы потешаются над нашей оперой… Словом, все та же проблема трансляции культур.
Вот куда завел нас с вами разговор о русских переводах китайской поэзии.
По просьбе «Горького» Илья Смирнов порекомендовал пять сборников китайской поэзии в русских переводах, с которых можно начать знакомство с этой традицией:
1. Постоянство пути. Избранные танские стихотворения / В переводах В. М. Алексеева. СПб., 2005.
2. Дальнее эхо. Антология китайской лирики (VII–IХ вв.) / В переводах Ю. К. Щуцкого. СПб., 2000.
3. Ван Вэй. Стихотворения / Стихотворные переложения Арк. Штейнберга. М., 1970.
4. Китайская классическая поэзия в пер. Л. Эйдлина. М., 1975.
5. Чистый поток. Поэзия эпохи Тан (VII–Х вв.) / В переводах Л. Н. Меньшикова. СПб., 2001.