«В пустыне есть все. Это законченная система»
О жизни, философии и книгах ливийского писателя Ибрагима аль-Куни
Американский философ иранского происхождения Реза Негарестани, чья «Циклонопедия» недавно была издана на русском языке в издательстве «Носорог», называет арабоязычного ливийского прозаика Ибрагима аль-Куни наиважнейшим для него автором. Более того, он считает аль-Куни пионером жанра theory-fiction, изобретение которого приписывают самому Негарестани. «Возвращаюсь к романам Ибрагима аль-Куни спустя много лет. Я не знал о его работах, когда писал „Циклонопедию” в 2004–2005. Но некоторые мои друзья говорили о нашем сходстве. Когда я начал читать его книги, меня осенило, что именно так мое лучшее alter ego могло бы написать о ближневосточной пустыне. Я сказал тогда другу: любопытно, что люди выросшие в определенной среде (в данном случае это Ближний Восток), видят мир через ту же самую семью концептов, метафор и тропов. Почти каждая работа Ибрагима основывается на том факте, что те, кто живет в пустыне, могут быть людьми либо джиннами, обычными людьми либо демонами духовного мира. Дилемма в том, что невозможно отличить одного от другого или сказать определенно, кто есть кто в начале истории или в ее конце. Оглядываясь назад, после того, как я уже прочитал романы аль-Куни, все это фактически является идеей самой „Циклонопедии”, но политизированной в соответствии с положением вещей на Ближнем Востока», — писал Негарестани в своем фейсбуке. Нас же в этой истории интересует прежде всего то, что Ибрагим аль-Куни сформировался под значительным влиянием русского языка и русской культуры. Попробуем разобраться.
1 сентября 1969 года в Королевстве Ливия произошел военный переворот левого толка, в результате которого в стране была упразднена монархия, провозглашена Ливийская Арабская Республика, изгнаны английские и американские военные, а также итальянские колониальные поселенцы, налажены отношения с СССР, а к власти пришел полковник Муаммар Каддафи. Последствия этих событий остро развиваются до сих пор, но тогда это означало избавление от колониального господства и давало надежду на самостоятельное политическое будущее. А поскольку девизом возглавляемого Каддафи «Совета революционного командования» были «Свобода, социализм и единство», Советский Союз первым признал новое государство, после чего последовали интенсивные культурно-экономические отношения, включавшие обучение ливийской молодежи в вузах СССР. И одним из таких молодых людей был Ибрагим аль-Куни, который в начале 70-х поступает в Литературный институт имени А. М. Горького и в чьем творчестве все вышеперечисленные мотивы — политика, колониальное доиндустриальное прошлое, тревожное будущее, жестокость и надежда, солнце и пустыня — будут повторяться постоянно.
 Ибрагим аль-Куни на фоне книг из серии «Философское наследие»
Ибрагим аль-Куни на фоне книг из серии «Философское наследие»
Ибрагим аль-Куни родился в 1948 году в городе Гадамес, Ливия. Будущий писатель происходил из народа туарегов, чьи представители говорят на нескольких берберских диалектах, но родным для него стал гхадамесский — исчезающий на данный момент язык с численностью носителей около 4 000 человек, большая часть из которых проживает в Гадамесе. В 12 лет аль-Куни учит арабский — государственный язык Ливии и язык его произведений. Приехав в Москву учить русский, читает марксистскую философию, знакомится с произведениями Достоевского, Толстого, Шолохова, Бахтина, Солженицына и Чехова, трудами французских экзистенциалистов, немецких романтиков. Сам он признается, что в Россию его двигала любовь к Достоевскому и другим русским романистам, а также возможность читать на русском мировую литературу. В 1974 году дебютирует как прозаик и публицист: на арабском издан сборник рассказов «Внеочередная молитва» и опубликовано эссе «Заметки живущего на чужбине». В 1977-м оканчивает институт, после чего работает журналистом, в основном занимаясь темами национализма и социализма в постколониальной Ливии. В 1979-м дебютирует в советской печати: в седьмом выпуске «Восточного альманаха» опубликован переведенный на русский рассказ «Глоток крови». В 80-е годы работает представителем Общества ливийско-польской дружбы в Варшаве и главным редактором издаваемого на польском языке журнала Общества «Ас-Садака». Продолжает публиковать художественные произведения. В 1988 году в московском издательстве «Радуга» выходит сборник рассказов аль-Куни «Глоток крови». После распада СССР переезжает в Польшу. Не теряя связи с родиной, работает корреспондентом в Ливийском новостном агентстве и Ливийском культурном центре. Занимается переводами на польский язык арабоязычных рассказов, включая свои собственные. В 1994-м переезжает из Польши в Швейцарию, в город Гольдивиль, где знакомится с арабистом, доктором Хартмутом Фендрихом, который впоследствии переводит многие произведения аль-Куни на немецкий язык и знакомит с ними западного читателя. Затем следуют переводы на французский, английский и шведский язык, которые приносят аль-Куни мировую славу и несколько престижных литературных премий.
Такова краткая биография ливийского писателя Ибрагима аль-Куни. Что касается его книг, то пустыня, безусловно, ключевой для них образ. «Проблема пустыни, прежде всего, экзистенциальная проблема. На самом деле пустыня — это не просто пустыня. Это символ человеческого существования. Потому что... если мы подумаем о ней какое-то время, мы поймем, что пустыня — богатая присутствием духа — это рай... Настоящий рай. Цивилизация, бездушный город — это ад... Это парадокс. В моих произведениях есть эта метафизическая сторона пустыни. В действительности пустыня — это не место. У места должны быть предпосылки, самая важная из которых — наличие воды. Без воды там невозможно обосноваться. И в этом смысле пустыня становится трансцендентальным местом, местом, которое, по сути, только тень места. И это вызывает недоумение», — говорит он в интервью каналу Louisiana Channel.
И именно пустыне как теневой стороне бытия посвящен рассказ «Глоток крови», в котором пожилой бедуин, чтобы прокормить плачущих от голода детей, отправляется на рискованную охоту в пустыню, где все имеет дополнительный «метафизический» смысл, выражающийся в обязательном ритуале, несоблюдение которого чревато катастрофическими последствиями. Что в итоге и происходит: охотник, залюбовавшись красотой газелей, забывает перед выстрелом прочитать заклинание против сопровождающих газелей злых духов и оставляет в пустыне нож. А в решающий момент, когда единственным спасением от жажды остается глоток верблюжьей крови, осознает, что ему нечем надрезать верблюду горло. Похожий сюжет в рассказе «Черный козлик», где пренебрежение ритуалом приводит к тому, что найденные в пустыне сокровища превращаются в пепел.
 «Вот он, грех мой, мое заблуждение! Можно было просто посмотреть на газель и вернуться. Можно было не стрелять. Или помолиться при этом, по крайней мере произнести имя Аллаха! Да, но дети?.. Дома ждут и плачут голодные дети. Разве это мой грех? Разве грешен я в том, что создал Аллах прекрасное существо в обличье газели и поселил в нем злых духов? Разве грешен я, человек, в том, что родился в безводной Сахаре и живу охотой? Я никогда не стрелял без нужды!..
«Вот он, грех мой, мое заблуждение! Можно было просто посмотреть на газель и вернуться. Можно было не стрелять. Или помолиться при этом, по крайней мере произнести имя Аллаха! Да, но дети?.. Дома ждут и плачут голодные дети. Разве это мой грех? Разве грешен я в том, что создал Аллах прекрасное существо в обличье газели и поселил в нем злых духов? Разве грешен я, человек, в том, что родился в безводной Сахаре и живу охотой? Я никогда не стрелял без нужды!..
Он протянул руку и развязал путы на коленях Рыжего. Не ты первый, кого иссушила пустыня, не ты последний!..
Он больше не боялся солнца. Не боялся жажды, пустыни — ничего не боялся. Последнее, что он увидел, была фигура Рыжего, гордо возвышающаяся над пустыней. Сильные, стройные ноги верблюда, словно опоры шатра, стояли над головой старого туарега. Рыжий склонился над ним, облизал лоб, обнюхал лицо и одежду. Повернулся всем телом, прикрыл хозяина от лучей беспощадного солнца» («Глоток крови»)
Сразу хотелось бы отметить присутствующий в рассказе мотив необратимости, перехода за точку невозвращения, к которому часто обращался классик американской литературы Пол Боулз, писавший про ту же самую пустыню. Но при сравнении Боулза и аль-Куни различие между ними еще очевидней. В прозе Боулза, человека западной цивилизации, всю жизнь предпочитавшего ей страны Африки и Южной Америки, часто присутствует тема скрытого противостояния условных белых западных путешественников или колониальных поселенцев и туземцев. Туземцы в его прозе часто появляются только для того, чтобы обмануть, убить или изнасиловать белых европейцев или американцев, которые сами не до конца понимают, захваченные смутными желаниями, как они оказались в подобных обстоятельствах. Проза Пола Боулза прекрасно отражает страхи и иллюзии колониальной западной цивилизации перед лицом Другого.
В романах и рассказах аль-Куни присутствует как бы обратная Боулзу перспектива: жестокая, но родная и одухотворенная пустыня противопоставлена чудовищным городам, которые могут сначала появиться как яркая мечта, но где жители пустыни не находят ничего хорошего (рассказы «Новые дали», «Куда ты, бедуин?»), а колониальные отношения выражаются напрямую, как, например, противостояние туарегов и итальянских военных в рассказе «Оазис».
Важно, что если в поздней прозе Боулза и присутствуют политические события, такие как война в Алжире, то они появляются как далекий гул, причудливый фон для драмы неопределенного экзистенциального ужаса, который, однако, испытывают и герои аль-Куни, но поводом для него служит именно категоричность политического выбора, не позволяющая отойти от цели, даже если это может стоить жизни. Так, в рассказе «Дорога на Орес» идущие из Ливии в Алжир с грузом оружия бедуины вынуждены изменить первоначальный маршрут и попытаться пройти через центр песчаной пустыни, чтобы укрыться от французских патрулей и самолетов.
«— Сколько сахар в Великой Сахаре, Амуд?
— В Великой Сахаре много разных пустынь, — ответил шагавший впереди каравана Амуд. — Глинистая и песчаная, скалистая и горная, низинная и на возвышенности. Равнины есть и вади, камни, песок, щебенка. И никогда они не смешиваются. Каждая сахара независима, сама по себе, в другие не вторгается — словно ножом разрезана. Ты не знаешь еще, какое у нее щедрое сердце, у этой Сахары. Она всегда дает тебе больше, чем обещает. А если предашь ее, будет преследовать, где бы ты ни находился, и обязательно отомстит!
...
— Вот потому-то и говорю я: лучше нам решиться на обход, чем даром время терять, ждать, покуда уйдут они. „Каторжный” колодец находится в самом центре песчаной Сахары — им до него не добраться ни на машинах, ни на самолетах...
Бедуин немного помолчал, а потом сказал, уже обращаясь лишь к себе самому:
— Сахара посильней их будет. А мы, брат, сильнее Сахары...
Солнце еще не достигло зенита, но пекло, как в полдень. Караван тоненькой струйкой потек по пескам, то сливаясь с ними совсем, то вновь возникая на мгновение на раскаленных песчаных холмах» («Дорога на Орес»)
Но все же есть еще кое-что свойственное обоим авторам: сознание того, что сущностью пустыни, которая, напомню, является символом самого бытия, является ее обманчивость, непостижимость. Пустыня — место, которое невозможно мерить человеческими мерками, и иллюзия понимания происходящего часто оборачивается для человека трагически. Все происходит так, будто у нее есть собственная воля и недоступные человеческому разуму цели и намерения. И выражением такого «самотождественного подвижного покоя» пустыни будут звучащие по ночам из ее глубин барабаны, природа которых остается неизвестной как для путешественников, так и для самих жителей пустыни.
«Пустыня — живое существо. У нее есть душа, тело. Она страдает, пляшет, поет бьет в барабаны, развлекается, играет на музыкальных инструментах. Обычно она делает это после страданий знойного дня. Увы, Мисбах, ты совершенно не знаешь пустыни. Ты не знаешь, в чем секрет успеха африканской музыки. Она рождается в глубинах пустыни. Те, кто живет здесь, знают, что любование пустыней ведет к безумию. Но они участвуют в ее танцах и весельях и таким образом побеждают ее, побеждают свой страх перед ней. Если же они будут только зрителями, то ужас и безумие овладеют ими. Они относятся к ней так же, как к самой жизни. Знаешь, какой меня охватил ужас, когда я впервые услышал эти барабаны, но постепенно я привык к ним» («Барабаны пустыни»)
Похожая идея присутствует во впечатляющем своей поэтической силой рассказе «Священная птица», где некая таинственная белая птица, которая по преданию приносит счастье, является двум подросткам-пастухам — мальчику и девочке, после чего они начинают каждый день заниматься любовью, поедая листья дрока, обладающие наркотическим эффектом. Мать мальчика застигает их нагими и одурманенными и разлучает навсегда. Мальчик пытается покончить с собой, но выживает. В конце он видит ту же самую птицу, значение которой теперь неясно.
«И вдруг... он увидел птицу. Ту самую священную птицу. Тяжело взмахивая огромными крыльями, она летела низко над землей, направляясь куда-то на восток. Он долго провожал ее взглядом, пока она не скрылась за грядой холмов.
— В первый раз он приносит счастье, — пронеслось в голове мальчика, — а во второй...
Он долго сидел, окруженный безмолвной пустыней, потом поднялся и зашагал на восток, в ту сторону, куда улетела священная птица» («Священная птица»)
Очевидно, что если пустыня способна влиять на человека, то и человек тоже может влиять на пустыню. Приход человека в пустыню должен был что-то привнести в нее: «Человек принес в пустыню вирус существования, болезнь сомнений и большие вопросы. Болезнь существования, существование в естественном отношении, в смысле „быть или не быть” — вечный вопрос. В пустыне ты начинаешь сомневаться в собственном существовании. Ты погружаешься в мир, который способен отрицать твое естественное существование, но мир столь очаровательный, что это заставляет твою душу сиять. Дух рождается в пустыне. Несомненно, рождается. Вот почему люди Сахары духовны от природы» (из интервью каналу Louisiana Channel)
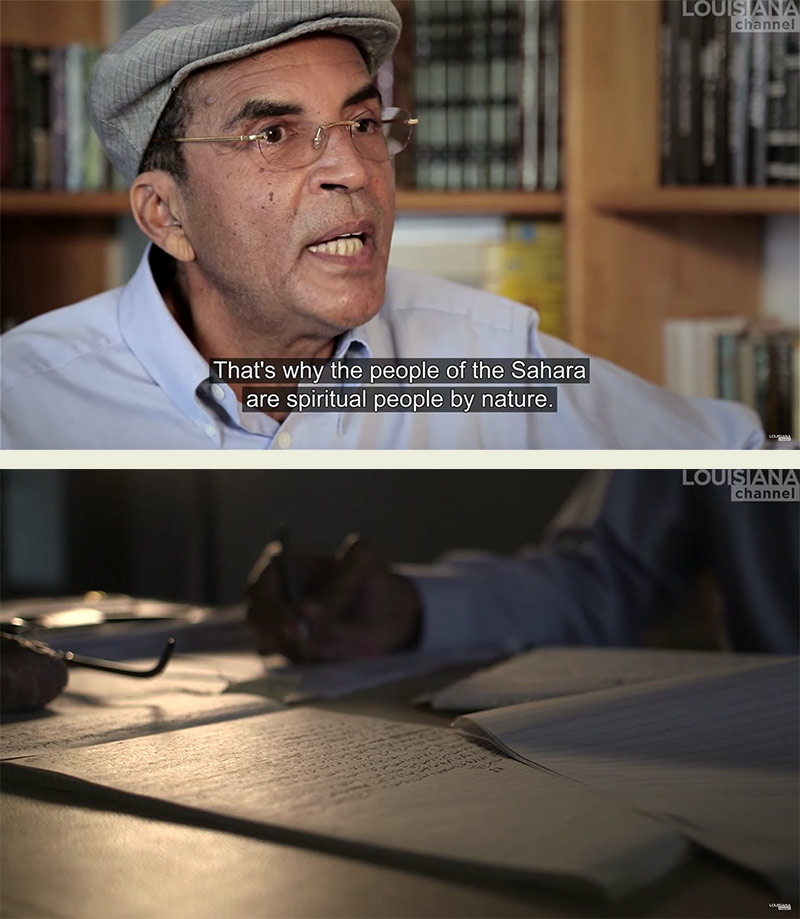 В рассказе «Газели» приход в пустыню компаний, разыскивающих нефть, меняет вековечный уклад жизни. Появление технических средств, таких как джипы «Лэндровер» и ружей, стреляющих картечью, привлекает в пустыню массу авантюристов, которые значительно сокращают популяцию газелей и заставляют их мигрировать в недоступные горные районы. Главный герой, Марзук, известный своей любовью к газелям, устраивается на работу в полицию, где ему поручают охрану животных от браконьеров. Но главными браконьерами оказываются сами полицейские. Марзук начинает пить вино, истребляет целые стада газелей и тем самым предает самого себя. Пустыня безжалостно уничтожает его.
В рассказе «Газели» приход в пустыню компаний, разыскивающих нефть, меняет вековечный уклад жизни. Появление технических средств, таких как джипы «Лэндровер» и ружей, стреляющих картечью, привлекает в пустыню массу авантюристов, которые значительно сокращают популяцию газелей и заставляют их мигрировать в недоступные горные районы. Главный герой, Марзук, известный своей любовью к газелям, устраивается на работу в полицию, где ему поручают охрану животных от браконьеров. Но главными браконьерами оказываются сами полицейские. Марзук начинает пить вино, истребляет целые стада газелей и тем самым предает самого себя. Пустыня безжалостно уничтожает его.
«Маймун вспугнул газель, и Марзук едва не столкнулся с метнувшейся в его сторону самкой. На мгновение их взгляды встретились, и он отчетливо различил в ее глазах что-то заклинающее, таящее мольбу, невыносимую боль и страдание. Он никогда не видел таких глаз у животных и от неожиданности замер, прежде чем выстрелить. Пораженная в шею, газель, запрокинув голову, рухнула. Потом привстала и сделала несколько шагов. Снова упала, издав какой-то странный звук, похожий то ли на мычание, то ли на блеяние, долгое и пронзительное, полное острой муки. И в тот же момент из чрева погибающей самки вывалился детеныш. Марзук успел заметить большую слезу, выкатившуюся из ее глаза. Она сделала отчаянное движение, облизала плод и, не в силах больше шелохнуться, безнадежно застыла» («Газели»)
В прозе аль-Куни часто используется прием, когда социальный мотив ведет к экзистенциальной рефлексии и глубокой символизации, а существование в экстремальных и ограниченных условиях влечет остроту политического. Если человек оказался в пустыне, он может встретиться со смертью. А человек, встретивший собственную смерть, становится свободным или погибает.
Любопытно и то, что может означать пустыня с точки зрения теории литературы. Вот что говорит аль-Куни по этому поводу: «Как написать о месте, которое совершенно не удовлетворяет основным предпосылкам идеи места? Как написать роман или эпос, как в случае моей работы, просто о метафизическом месте? Когда я учился в Литературном институте в ранние 70-е, преобладающей точкой зрения было то, что роман — это городской феномен. Это теория Дьердя Лукача из его статей о Томасе Манне, то, что роман — это городской феномен и он невозможен за пределами города. Он в чем-то прав, потому что роман — это об отношениях. Тогда как писатель может создать роман или эпос в мире за пределами отношений? Для меня это было большой проблемой. Я спросил себя: действительно ли роман — городская форма искусства? Я пришел к выводу, который полностью противоречит этой теории: домом для романа является Человек, а не город. Родина романа — загадка, зовущаяся Человеком. Где бы ни оказались человеческие существа, там будет роман или даже эпическая история.
Пустыня богата эмоциями. Так что когда я столкнулся с этой проблемой на ее пике, я был способен не только оспорить теорию Лукача, но перевернуть ее c ног на голову и написать серию рассказов об абстрактном феномене, называющемся пустыней. Но это ведет к проблеме времени и пространства. Если есть сомнения по поводу существования пустыни в качестве места, то естественно, что мы можем усомниться в присутствии в пустыне времени. Поэтому мои читатели чувствуют, что время в пустыне — это мифическое время. Замкнутое время. Потому что в месте, где нет никаких отношений, нет свойственного городу типа конфликта, где не существует предпосылок места, естественно, что время тоже исчезает. Поэтому время в пустыне не является временем в традиционном смысле. В пустыне время застыло... Оно вечно. У него нет свойств, нет перспектив. Прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Поэтому необходимы созерцание и философское исследование пустыни как феномена. А этого до сих пор нет» (из интервью каналу Louisiana Channel)
В ажнейшей темой для творчества аль-Куни являются также культура, мифы и предания его народа — туарегов. Несмотря на то, что туареги преимущественно мусульмане-сунниты, они сохраняют многие доисламские традиции, такие как кочевой образ жизни, ключевой матриархальный миф (происхождение от великой Матери-Богини) и матрилинейная родовая организация, которые постоянно возникают в романах аль-Куни наряду с феноменологией пустыни. Например, в романе «Бесы пустыни» аль-Куни проводит концептуальное различие между кочевым и оседлым обществом, отдавая предпочтение кочевому за его способность противостоять джиннам. Из-за сложности и глубины этой культуры распространяться на ее счет в объеме, который превышает один абзац, не имеет здесь никакого смысла.
ажнейшей темой для творчества аль-Куни являются также культура, мифы и предания его народа — туарегов. Несмотря на то, что туареги преимущественно мусульмане-сунниты, они сохраняют многие доисламские традиции, такие как кочевой образ жизни, ключевой матриархальный миф (происхождение от великой Матери-Богини) и матрилинейная родовая организация, которые постоянно возникают в романах аль-Куни наряду с феноменологией пустыни. Например, в романе «Бесы пустыни» аль-Куни проводит концептуальное различие между кочевым и оседлым обществом, отдавая предпочтение кочевому за его способность противостоять джиннам. Из-за сложности и глубины этой культуры распространяться на ее счет в объеме, который превышает один абзац, не имеет здесь никакого смысла.
Все вышесказанное хотелось бы подытожить, опять же, словами самого аль-Куни: Пустыня — это нетронутое сокровище. Потому что преобладающая точка зрения, самое общее впечатление состоит в том, что пустыня — пустынна. Что в пустыне преобладает ничто. Что пустыня — это пустота. А это не так. На самом деле в пустыне есть все. Разница только в том, что пустыня отталкивающа, недоступна, неумолима. Она искажает собственную природу. Встретиться с ней, раскрыть ее природу представляет собой серьезную проблему для тех, кто стремится постичь этот мир. Почему? Потому что это означает свободу. Пустыня была домом для святых и пророков. Потому что пустыня — это оазис созерцания. Потому что это перешеек между существованием и абсолютной свободой, между жизнью и смертью. Так бывает только в пустыне. Вот почему пустыня — это законченная система.
И можно только выразить сожаление, что в данный момент Ибрагим аль-Куни не так известен и востребован в России, как во всем остальном мире. Ему вручают престижные литературные премии в арабских и европейских странах, а в 2012 году вышла книга профессора философии Майнрада Кальеха «The Philosophy of Desert Metaphors in Ibrahim al-Koni — The Bleeding of the Stone». В то время как сам аль-Куни, судя по его немногочисленным интервью, которые он дает на фоне книг с русскоязычными корешками, до сих пор находится под большим влиянием русской культуры. Единственная книга аль-Куни, вышедшая в России после сборника «Глоток крови», — это роман «Бесы пустыни», изданный в 2010 году издательством «Библос консалтинг».