«В девяностые я обычно переводил „дискурс“ как „тип речи“»
Интервью с филологом Сергеем Зенкиным
«Что он напишет на доске — потом прочтем на пиджаке»
Я сын военного инженера-ракетчика, всю жизнь прожившего в Москве и ушедшего в отставку полковником; мать тоже работала инженером, в гражданских учреждениях. У родителей в доме были книги, через знакомых они доставали даже некоторые дефицитные издания. На меня особенно сильное впечатление произвело собрание сочинений Жюля Верна, я прочитал его от корки до корки. Особенно любил роман «Таинственный остров», поэтому с большим удовольствием много лет спустя прочел (и перевел) образцовый разбор этого романа, сделанный Роланом Бартом.
Сам я начал собирать свою библиотеку в старших классах школы. Начиная с 7-го класса я учился во Второй физико-математической школе — знаменитом передовом учебном заведении Москвы. Общение с учителями, прежде всего с учителем литературы Феликсом Александровичем Раскольниковым, сформировало мои культурные интересы на всю жизнь. Именно тогда я стал читать классическую литературу, разбирать ее с интересом, и вскоре стало понятно, что, в отличие от большинства своих одноклассников, я стану не математиком и не физиком, а филологом.
Чтобы резко не порывать с математической направленностью школьного образования и традицией моих родителей, я поступил первоначально на отделение структурной лингвистики филфака МГУ, но через год перешел на романо-германскую филологию. Этот год тоже был очень важным, потому что я, во-первых, стал учить французский язык, который совершенно не знал раньше, а во-вторых, меня быстро и очень эффективно научили основам структурной лингвистики. Дальше и то и другое здорово сошлось вместе, когда я стал заниматься французской литературой и литературной теорией.
Структурная лингвистика давалась мне легко, потому что она основана на математическом мышлении, а математике во Второй школе учили хорошо. На отделении структурной лингвистики я впервые увидел перед собой настоящих крупных ученых. Например, математику нам преподавал Владимир Успенский; потом, уже годы спустя, встречая меня где-нибудь в коридоре филфака, он качал головой и порицал меня за мой уход. Старославянский язык и древнюю культуру нам преподавал Андрей Зализняк, ему тогда было тридцать с чем-то лет. Я помню его внешний облик: он был непринужденным, подвижным, стильно одетым молодым человеком — кажется, он тогда только что вернулся после стажировки во Франции. За его забавную привычку прислоняться спиной к доске моя однокурсница сочинила стишок: «Что он напишет на доске — потом прочтем на пиджаке». В общем, это была настоящая обстановка академической близости и непринужденного общения, и такая встреча с настоящим, блестящим филологом много значит на первом курсе. На других кафедрах филфака обстановка была иной, и я довольно быстро это почувствовал, когда перешел на романо-германское отделение.
«Я шел на то, что в уголовном кодексе называется „крайняя необходимость”»
Перешел я туда ради литературы. Язык — это хорошо, это точное знание, но я пришел на филфак не за этим. Я хотел заниматься литературой, а поскольку меня успели научить французскому языку, то, пользуясь этим знанием, я поступил именно во французскую группу, хотя параллельно посещал и семинар известного критика Владимира Турбина, где собирались в основном студенты-русисты; некоторые из них на всю жизнь остались моими друзьями.
Литературу нас заставляли изучать хронологически, начиная с античности. Первая моя самостоятельная работа была по эпохе Возрождения — статейка о Рабле, которую даже напечатали в студенческом сборнике. Довольно быстро я переместился в XIX век, во французский романтизм, и последние два курса были фактически посвящены подготовке диплома о романтической фантастике.
Чем меня привлекли французский романтизм и фантастика, я тогда не очень отдавал себе отчет. Скорее всего, меня интересовало не столько то, что можно назвать духовным содержанием этих произведений, сколько их техника, структурное устройство. Меня интересовали язык и поэтика, а французская фантастика дает для изучения этого больше оснований, чем, скажем, немецкая, потому что она редко претендует на мистические прозрения, это в большей степени литературная игра. Она так и просится, чтобы описывать ее с точки зрения поэтики, что и начали делать незадолго до меня французские структуралисты. Я поступил на факультет в 1972 году, а в 1971-м Цветан Тодоров выпустил книгу «Введение в фантастическую литературу». Я прочитал ее лишь через несколько лет, так как она была малодоступна.
Современную французскую научную литературу было вообще нелегко найти в Москве, даже если знать язык. Что-то я собирал по разным библиотекам и букинистическим магазинам (однажды в «Академкниге» купил новенькое, сданное кем-то издание «Семиотики» Юлии Кристевой); что-то находилось у наших преподавателей: например, Леонид Андреев, заведующий кафедрой зарубежной литературы и мой научный руководитель, впервые дал мне прочитать «Мифологии» Барта — это было большое открытие, до сих пор это моя любимая книга Барта. Случались даже совсем экстремальные опыты книжной добычи: раз или два на международных книжных ярмарках в Москве я похищал книги по философии с французских стендов, обосновывая это железобетонной логикой — эти работы нужны мне для профессиональной деятельности в общественных интересах, и, если бы их можно было купить, я бы их купил за любые деньги, но, так как советское государство не давало мне такой возможности, я шел на то, что в уголовном кодексе называется «крайняя необходимость». Думаю, я расквитался за совершенные правонарушения, хотя бы потому, что если не эти, то ряд других близких к ним книг я потом перевел на русский язык — например, те же «Мифологии» Барта.
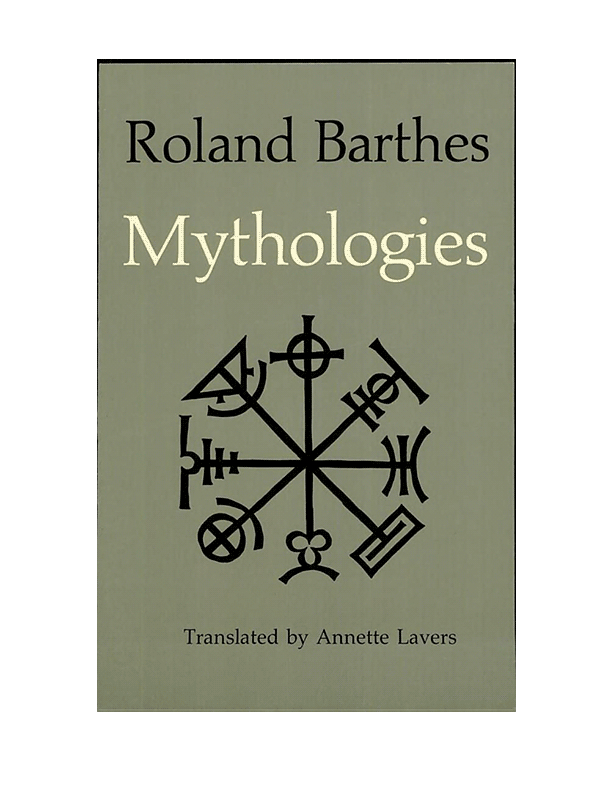 Работы советских, московско-тартуских семиотиков были доступнее французских. В конце 1970-х годов я несколько раз ездил на студенческие конференции в Тарту и в компании друзей немного общался с Юрием Лотманом. В работах структуралистов формулировалось понятие знаковой системы, дискурса как определенного способа смыслового производства, где в сложных комбинациях взаимодействуют языки разного типа, разные знаковые системы. Отчасти это было похоже на бахтинскую идею многоязычия и полифонии, но методологически опыт Бахтина отличен от структурализма. Романтическую фантастику я в своем дипломе анализировал именно в таком аспекте: как разные социальные коды — коды фактологической достоверности, аллегорического толкования и другие — сталкиваются с неким чуждым культурным кодом, который отсылает к логике мифа, и какие конфигурации может принимать это взаимодействие. Я занимался не столько структуральным описанием текстов, сколько описанием взаимодействия знаков в культуре.
Работы советских, московско-тартуских семиотиков были доступнее французских. В конце 1970-х годов я несколько раз ездил на студенческие конференции в Тарту и в компании друзей немного общался с Юрием Лотманом. В работах структуралистов формулировалось понятие знаковой системы, дискурса как определенного способа смыслового производства, где в сложных комбинациях взаимодействуют языки разного типа, разные знаковые системы. Отчасти это было похоже на бахтинскую идею многоязычия и полифонии, но методологически опыт Бахтина отличен от структурализма. Романтическую фантастику я в своем дипломе анализировал именно в таком аспекте: как разные социальные коды — коды фактологической достоверности, аллегорического толкования и другие — сталкиваются с неким чуждым культурным кодом, который отсылает к логике мифа, и какие конфигурации может принимать это взаимодействие. Я занимался не столько структуральным описанием текстов, сколько описанием взаимодействия знаков в культуре.
«В издательстве „Художественная литература” я занимался тупой работой»
В аспирантуре мне места не нашлось. Меня приняли в издательство «Художественная литература», и я семь лет проработал там младшим редактором; место было поганое, хотя я работал в редакции литературоведения и критики, то есть вроде бы занимался тем, что мне было ближе всего. В издательстве была ужасная обстановка идеологической цензуры, одновременно с попытками советской бюрократии наладить современное производство, которое наладить было невозможно. Директор издательства, бывший комсомольский функционер, регулярно устраивал страшные накачки своим подчиненным, несколько раз даже было так, что люди после этого умирали, — но, несмотря на эти усилия, все разваливалось, планы не выполнялись. Даже молодые сотрудники имели совершенно извращенное представление о хорошей и плохой литературе. Помню, на каком-то семинаре по обмену опытом молодых редакторов выступала девица, которая хвасталась, как она, издавая сборник Акутагавы Рюноскэ, выбрасывала оттуда самые «тяжелые» новеллы, которые будут отягощать души наших читателей. Я сам занимался тупой работой — в основном вычиткой и считкой совершенно ненаучных книг советских критиков. Единственное, что мне удалось сделать там интересного, — это выпустить в роли соредактора двухтомник писем Флобера, по тем временам это было хорошее издание.
В «Художественную литературу» я поступил в конце 1978 года, а в 1986-м меня пригласили перейти в издательство «Советский писатель». К тому времени я начал немного печататься в журналах, писал небольшие статьи о французской литературе и современной критике. В частности, по рекомендации своего коллеги по «Художественной литературе» Александра Когана я стал печататься в журнале «Литературное обозрение», где на меня обратил внимание заместитель главного редактора Валентин Золотавкин, а впоследствии он перешел работать в издательство «Советский писатель» и порекомендовал меня туда в редакцию критики и литературоведения. Там уже было интересней, не только из-за другой атмосферы в редакции, но и из-за начавшейся в стране перестройки. Резко пересматривался редакционный портфель, стали издавать все больше хороших научных книг — Эйхенбаума, Шкловского; я выпустил первую на родине книгу Александра Жолковского, готовил к печати сборник работ Сергея Аверинцева. Тогда же мы связались с Юрием Михайловичем Лотманом, и он обещал написать для нас книгу по истории русской литературы от Ломоносова до Тютчева, но, к сожалению, не успел. Я проработал в «Советском писателе» до 1992 года, когда издательство фактически перестало функционировать; с этого момента начинается новый период в моей жизни, наполненный переводческой деятельностью, многолетним сотрудничеством с журналом «Новое литературное обозрение», который основала моя сокурсница и друг Ирина Прохорова, а с 1997 года — научной работой в Российском государственном гуманитарном университете, где я в течение многих лет на заседаниях Института высших гуманитарных исследований регулярно встречал самых крупных российских ученых-гуманитариев: Елеазара Мелетинского, Михаила Гаспарова, Владимира Топорова, Леонида Баткина и других.
«Часть переводов для сборника текстов Барта мне пришлось делать на военных сборах»
Переводами я начал заниматься тогда же, когда стал работать в «Советском писателе». Чаще всего я не выбирал сам тексты для перевода, меня приглашали другие. Так, Георгий Косиков, составитель первого большого тома Ролана Барта на русском языке, вышедшего в 1989 году, позвал меня принять участие в этом издании как одного из переводчиков; в дальнейшем чаще всего я получал прямые заказы от издателей. Помнится, часть переводов для сборника текстов Барта мне пришлось делать на военных сборах в Серпухове, где меня месяц учили какой-то бессмысленной военно-журналистской работе. Потом, уже в 1996 году, я выпустил полный самостоятельный перевод «Мифологий» Барта, впервые снабдив этот текст подробными комментариями и предисловием. Тогда же я участвовал в переводе «России в 1839 году» Астольфа де Кюстина, получилось даже так, что на какой-то стадии я оказался организатором этого издания. Это один из проектов, которым я горжусь, потому что книга хоть и была не в главном русле моих интересов, но оказалась очень востребованной и до сих пор переиздается. Переводческая работа принесла мне некоторую известность, меня до сих пор нередко воспринимают как переводчика, но я уже несколько лет как почти перестал переводить сам, занимаюсь научными исследованиями и только иногда руковожу коллективными переводческими проектами (такими, как два издания работ моего старшего друга, недавно скончавшегося швейцарского историка культуры Жана Старобинского).

Сергей Зенкин
Фото: Булат Рахимов / vk.com/smena_kazan
В чем специфика перевода теоретической литературы? То, что переводчику романов может быть почти не нужно, для переводчика философии или теоретической социологии может оказаться самым главным. Самое трудное в переводе такой литературы — не эквиваленты отдельных слов, даже если это важные термины и понятия, а синтаксис, логика фразы и точное смысловое содержание каждого высказывания. Это почти математическая, вычислительная работа, задача которой не в том, чтобы произвести эстетическое впечатление на читателя, а в том, чтобы адекватно донести до него развитие авторской мысли. Мне пришлось вырабатывать в себе такие переводческие навыки; этому, конечно, помогали школьное математическое образование и университетская структурная лингвистика.
Мне нравится практическая рекомендация Умберто Эко в его книге о переводе: он говорит, что перевод — это транзакция, сделка между переводом и оригиналом, где всегда приходится чем-то жертвовать, чтобы лучше передать что-то другое, главное. Полностью адекватного перевода не бывает, к нему можно только стремиться, реальная же задача состоит в том, чтобы выделить доминанту текста и заботиться прежде всего о ней. В случае перевода теории такой доминантой является развитие абстрактной мысли. В качестве высшей, предельной задачи переводчика можно еще назвать выяснение метафорических основ авторской мысли — например, внутренних форм понятий, смысловых схем, которые скрываются за рассуждением и могут иметь уже не смысловой, а пространственный характер.
Есть ли у теоретического перевода срок годности? Это зависит от развития нашей собственной культуры. Если говорить о моем личном опыте, то в 1990-е годы пришлось издавать в России сразу много иностранных теоретических текстов, написанных на понятийном языке, который был абсолютно незнаком нашему читателю. Далеко не все читатели учились структурной лингвистике, и даже те, кто учился, не всегда были готовы читать такое: слишком мало кто знал всерьез западную философию, особенно философию левого, критического направления, на которую опирались французские теоретики. Наши читатели интересовались скорее идеалистической или религиозной философией. Поэтому в 1990-х годах приходилось иметь в виду читателя заведомо некомпетентного и не готового к встрече с такими текстами, соответственно возникала задача их адаптации: например, надо было стараться по возможности переводить (а не передавать транскрипцией) непривычные иностранные термины. Это неоднозначная процедура: с одной стороны, переведенные термины становятся понятнее, но, с другой, неизбежно теряется их точность, в их содержании происходят неконтролируемые семантические сдвиги. Переводчику приходилось идти на сделку, делать трудный выбор: либо стремиться, чтобы тебя не совсем точно, но поняли сегодня, либо готовиться к тому, что сегодня тебя вообще не поймут, а поймут через 10–20 лет. Я часто старался при переводе растолковывать текст, но потом прошли годы, многие понятия и термины примелькались и сегодня кажутся — скорее кажутся, чем реально являются! — общепонятными: например, слово «дискурс», которое я в девяностые обычно переводил как «тип речи». Когда сейчас мне случается переиздавать и перечитывать свои переводы, я делаю поправки именно в целях уточнения и терминологического устрожения текста.
Говоря вообще о результатах коллективной переводческой работы постсоветских десятилетий, я не думаю, что переведенные тексты нужно в обозримом будущем переводить заново: новые версии требуются только для некоторых совсем провальных старых переводов. По крайней мере, так называемая французская теория в целом по номинальному составу переведена достаточно полно, на сегодня у нас известны все ее основные тенденции, школы и имена. Другое дело, что не все авторы переведены достаточно полно, а многие книги плохо прокомментированы или даже вовсе лишены комментариев.
Специфическая ситуация сложилась с Пьером Бурдье: автор вроде бы переведен и известен, но некоторые важные книги остаются недоступными для русских читателей. Так обстоит дело с его работами о литературе и искусстве. Статья «Поле литературы» была в свое время переведена, а вот монография «Правила искусства» 1992 года, главная работа Бурдье о социологии художественной культуры, до сих пор отсутствует по-русски, и статья ее не заменяет: ряд проблем, которые рассмотрены в книге, отсутствует в статье. Дело, очевидно, в том, что Бурдье — социолог, и его издавали и переводили именно социологи для своих нужд, а книга о литературе осталась неприкаянной.
Вообще, как оказалось, концепция этого теоретика особенно легко подвергается схематизации. В чем соблазн Бурдье? Это соблазн свести литературу к внелитературным фактам, к структуре социальных взаимодействий писателей между собой, в общем, к тому, что Эйхенбаум называл «литературным бытом». Представления массового читателя неизбежно передаются специалистам-литературоведам: по такому расхожему представлению, литература состоит из писателей, и огромное количество литературоведческих работ посвящено взаимодействию писателей между собой. Получается, что личность писателя — базовая единица литературного процесса, хотя никто это особенно не доказывал. С таким же успехом можно считать единицей литературного производства слово, текст или язык. Структурализм как раз немало сделал, чтобы утвердить безличное представление о литературе, — знаменитая идея «смерти автора» имеет именно такой смысл. Если считать, что литература состоит из писателей, то социология дает нам эффективную наглядную схему, с помощью которой можно упорядочить их взаимодействие: писатели конкурируют как обычные агенты на рынке (наряду, например, с издателями), делят между собой поле, остается неизвестным другое — как это взаимодействие между людьми коррелирует с взаимодействием безличных языковых словесных структур? Бурдье в книге «Правила искусства» выдвинул смелую гипотезу о том, что между взаимоотношениями писателей и взаимоотношениями разных типов текста есть некоторая гомология, то есть у структурного устройства литературы есть своя специфика, однако она подсвечивается структурой отношений между пишущими людьми, хотя к ней все-таки не сводится.
Эта принципиальная проблема накладывается еще на одну эндемическую для нашей страны ситуацию, когда на протяжении многих десятилетий вульгарно-марксистская догма внушала поколениям филологов, что бытие определяет сознание и что литературные тексты возникают благодаря социальным обстоятельствам жизни писателей. Это не имеет ничего общего с продуманной и научной социологией литературы Бурдье. Но такая традиция приучала к убеждению, что литературу можно и нужно объяснять через внешние обстоятельства; оно пережило марксизм, и ему неосознанно поддаются многие люди, не зараженные марксистской догматикой.
«На чужие ошибки у меня поставлен глаз, как нюх у охотничьей собаки»
В 1990-е годы я начал ездить во Францию. Первая поездка была в 1992 году на Рождество, потом в течение многих лет я ездил туда регулярно по два-три раза в год. В 1980-е годы я увлекался французской теорией, а в 1990-е столкнулся не столько с теоретической, сколько с историко-литературной практикой в этой стране, общаясь преимущественно со специалистами по таким писателям, как Теофиль Готье, Ролан Барт, Жорж Батай, Морис Бланшо. Свою первую статью для ежегодника о Теофиле Готье я послал во Францию еще в советское время, году в 1989-м, напечатав ее на латинской пишущей машинке, — как мне рассказывала потом составительница сборника, ей пришлось просить внучку заново набрать мой текст на компьютере, потому что печатать статьи на машинке тогда было уже нельзя.
Чем была для меня Франция? Это был огромный опыт прямого знакомства с изучаемой культурой, ведь до этого, живя в закрытом советском обществе, я двадцать лет исследовал культуру этой страны в полной уверенности, что никогда ее не увижу! Это была попытка встроиться во французскую науку: я никогда не стремился стать ее постоянным участником и эмигрировать, но хотел стать наравне с французскими коллегами и участвовать с ними в одних проектах, что как будто и получилось. Это был новый этап научной выучки, потому что в 1990-е годы под влиянием перевода французских теоретических текстов и систематического общения с французскими учеными у меня стало складываться более строгое и ответственное отношение к тексту. В 1980-е годы я ощущал себя скорее критиком, чем ученым. С поездками во Францию дело начало меняться: я стал учиться писать научные статьи по-французски, а французский дискурс более аналитичный, чем русский.
Иногда это приводит к обескураживающей тавтологии, когда исследование текста сводится к его очень точному изложению. Человек настолько увлечен этой задачей, что у него уже не остается сил, времени и интереса на изложение каких-либо концепций и гипотез в отношении этого текста. В продукции французской филологии и истории литературы часто встречаются такие аккуратные, но интеллектуально приземленные тексты, которые пишутся так, как будто никакой теории вообще не было и нет. Тем не менее французская аналитическая школа мысли оказалась для меня крайне важной. В частности, она дает возможность вести строгую научную дискуссию, основываясь не на догмах, а на конкретных текстуальных элементах и фактах. В разных своих профессиональных ипостасях — как редактор и как рецензент — я культивировал в себе точность научной критики. Я отдаю себе отчет, что часто бываю агрессивным, что на чужие ошибки у меня поставлен глаз, как нюх у охотничьей собаки. Но я думаю, что критика конкретных ошибок как раз менее обидна для критикуемого автора, чем упреки в несоответствии каким-то принципам и в неуважении какого-то авторитета; я бы хотел, чтобы и меня критиковали так. Навык аналитической критики и самокритики создает и корректирующую силу в понимании теории, до какой-то степени предохраняя от неосторожных обобщений, от интуитивного, чисто вкусового понимания абстрактных идей, когда тебе чудится в них что-то симпатичное, но ты не умеешь точно формулировать и даже не очень заботишься об этом. В отношении к теории такое поведение — весьма дурное, и это, к сожалению, постоянный соблазн и для переводчиков, и для интерпретаторов, и для всех, кто пытается ее применять.
Французская наука дает тому, кто хочет у нее это взять, культуру точного картезианского мышления. Известная фраза, приписываемая Декарту: «Люди бы избавились от половины своих заблуждений, если бы научились точно определять смысл своих слов», — прекрасно подходит для этого случая: наука точно избавилась бы даже не от половины, а от большей части своих бед. Умение точно сформулировать, что означает то или иное понятие, — залог успеха в любом научном предприятии; у нас же это не всем очевидно, мы в науке охотно общаемся приблизительными словами, импровизациями, чуть ли даже не жестами: «Ну, вы же понимаете…». Я стараюсь учиться у французов культуре интеллектуально точного анализа.

Фото: public domain
«Литература утратила первенствующее место в представлениях общества»
Мировая наука о литературе пережила героический период во второй половине XX века, когда литература стала образцовым полем для разработки новых общетеоретических идей о культуре, жизни, производстве смысла. В дальнейшем выработанные идеи, в частности идеи литературной поэтики, рутинизировались и теперь мало кого вдохновляют, новые же идеи отсылают не столько к филологии как таковой, сколько к социологии, философии, психоанализу и даже естественным наукам. Все это ведет к фрагментации и растягиванию дисциплинарного поля, и уже непонятно, в какой мере этим литературным полем занимается филологическая наука, а в какой оно является местом набегов окружающих дисциплин. С другой стороны, сама литература утратила первенствующее место в представлениях общества, которое сегодня все больше осознает себя, ориентируясь не столько на текст, сколько на фильм, сериал. Такова, на мой взгляд, общая мировая ситуация. К тому же в некоторых странах — например, во Франции во второй половине XX века — литературная теория политизировалась: она опиралась на передовые левые идеи и давала сильные научные результаты, но одновременно и заражалась политическим дискурсом, который оказывал на нее деформирующее воздействие. С тех пор собственно научных результатов стало появляться меньше, а политизация осталась, и надо решать, как с нею быть, чтобы не терять научной объективности.
Россия в этом отношении скорее отстает: с одной стороны, нам доступны в переводах все или почти все основные авторы мировой литературной теории, а, с другой, усвоено это плохо, в текущей литературоведческой практике до сих пор используются очень устарелые, теоретически не осмысленные подходы. Такова, например, мода на интертекстуальность: в основе ее радикальная идея французской теории, но в текущей филологической практике она свелась к беспринципному сбору разных реминисценций, количество которых не переходит в качество. Они не объясняют литературный текст, потому что он воздействует на нас не только смыслом, но и внесмысловыми факторами — например, миметическими процессами, физиологическими эффектами, которые он производит. Об этом у нас пока редко задумываются, и, кроме того, у нас есть специфическая местная беда — большое и часто подспудное влияние религиозного дискурса. Я не говорю о попытках собственно религиозного — скажем, православного — толкования литературы; но и за их пределами слишком многим кажется, что целью исследования литературы и культуры является выявление в них некоего «духовного» смысла — неких священных ценностей и идеалов. Беда такого представления в том, что исповедующие его хотят видеть в литературе нечто целостное, подчиненное общей идее и лишенное противоречий. Но литература, искусство и культура не статичны; об этом прекрасно писал поздний Лотман, создавший абсолютно нерелигиозную, не-духовную концепцию литературы, которая до сих пор вызывает сильную оппозицию. Литература динамична и конфликтна, в ней, как в романтической фантастике, сталкиваются разные смысловые системы, у этого столкновения нет окончания, и анализ литературного произведения должен воссоздавать программу его незавершенности.
Конечно, есть и позитивные примеры пересадки научных теорий на русскую почву и включения русских ученых в мировую теоретическую рефлексию. Я с большой симпатией отношусь к работам Татьяны Венедиктовой, моей коллеги и друга. Она в 1990-е годы в ходе американских стажировок существенно переосмыслила свой подход к литературе; я ее понимаю, сам получил такой опыт во Франции. Она прилагает к той же американской литературе современные западные теории, прежде всего теории художественной рецепции, и это ответственная и серьезная работа. Другой пример — Михаил Ямпольский, который очень глубоко усвоил и продолжает перерабатывать теоретические идеи ХХ века, философские и нефилософские. Он выпускает одну за одной книги в России (правда, сам работает в Нью-Йорке).