Ужас, но не ужас-ужас: о поэзии Игоря Холина
Барачный цикл как зеркало голой жизни, которая учится жить
Барачные стихи Игоря Холина впервые были напечатаны в самиздатском альманахе «Синтаксис» (сост. А. Гинзбург, 1959). Они были сразу замечены «официальными органами», в которых появились такие характеристики поэзии сорокалетнего автора:
Москвич И. Холин, например, обнаруживает вполне определенный вкус к описанию всяческой дряни и мерзости. Где-то муж побил жену, кто-то напился и подрался с собутыльником, нерадивый хозяин расплодил клопов в квартире — ничто не проходит мимо внимания И. Холина. Он скрупулезно фиксирует все эти детали в своем очередном опусе. Нам довелось беседовать с этим человеком. Он ничего не делает, живет случайным заработком. Ему, по его словам, не везет: ни с кем не может сработаться. «Все плохие». (Карпель Р. Жрецы «Помойки № 8» — Яценко В. Письмо // Московский комсомолец. 29.9.1960).
Быть может, И. Холин протестует, обличает пороки? Нет, он их коллекционирует. <...> Такова, с позволения сказать, «позиция» И. Холина. Он глядит на окружающую действительность с высоты помойки, из глубины туалетной комнаты. Сознательно лишив себя того, что делает человека человеком, — труда, он слоняется возле жизни, брюзжит, изливая желчь в своих плохо срифмованных упражнениях. Да, именно безделье, тунеядство, привычка жить за счет других — приводят к этой «позиции» (Иващенко Ю. Бездельники карабкаются на Парнас // Известия. 2.9.1960.)
«Коллекционирует мерзости», «все плохие», взгляд «с высоты помойки, из глубины туалетной комнаты» — эти формулировки по умолчанию предполагали, что мерзости, конечно, есть, но советский субъект должен уметь их не замечать и смотреть, разумеется, не с высоты помойки и тем более не из глубины сортира, а с высот воображаемого коммунизма, откуда, что люди, что клопы, безразлично.
Сегодня, конечно, уже никого не нужно убеждать в том, что сила поэзии Холина, напротив, состояла в его умении увидеть то, что его читатели привыкли игнорировать. Однако споры о Холине по-прежнему вращаются вокруг «позиции автора». Так, критик Алексей Конаков, проницательно разобрав поэтику Холина, в финале своей статьи строго упрекнул его в неподобающем отношении к «главному субъекту эпохи: отчужденному пролетариату»: «Ассоциации роботизированных людей в холинских стихах способны производить лишь ссоры, драки, скандалы, преступления и похоть. Но не выявляет ли такая позиция довольно правое мировоззрение поэта? ... Консервативный идеологический посыл, отлитый в весьма авангардных формах». Критику возразила поэтка Галина Рымбу: «Позиция же самого Холина по отношению к жителям барака объясняется не отстраненной критикой мрачного и смутного единого пролетарского тела, а тем, что он-то как раз полностью отождествляет себя с этим телом. Холин в его устранении „авторского я” ... сам становится телом абортированной пролетарки, распластанной посреди барака, становится и дерьмом, в котором она лежит».
И хотя взгляд Конакова мне кажется анахроничным (как можно говорить о левой или правой позиции, не учитывая гегемонную идеологию времени?), я не вполне принимаю и позицию Рымбу — авторский взгляд у Холина все же предполагает дистанцию от героев. Но это, конечно, не дистанция классового или культурного превосходства.
Попробую объяснить, что имею в виду через анализ стихотворения Холина «Заборы. Помойки. Афиши. Рекламы». Оно не вошло в подборку «Синтаксиса», но именно оно открывает цикл «Жители барака» (написан в 1956–1958 гг.) во всех прижизненных публикациях этих стихов — что предполагает его особую роль:
Заборы. Помойки. Афиши. Рекламы.
Сараи — могилы различного хлама.
Сияет небес голубых глубина.
Бараки. В бараках уют. Тишина.
Зеркальные шкапы. Комоды. Диваны.
В обоях клопы. На столах тараканы.
Висят абажуры. Тускнеют плафоны.
Лежат на постелях ленивые жены.
Мужчины на службе. На кухнях старухи.
И вертятся всюду назойливo мухи.
Первая строчка: «Заборы. Помойки. Афиши. Рекламы» — резонирует с другими зачинами стихов из этого цикла. Владислав Кулаков указывает на прототип такого рода зачинов в стихах учителя Рабина — Евгения Кропивницкого:
Полночь. Шумно. Тротуар.
Пьянка. Ругань. Драка. Праздник.
Хрипы. Вопли, Безобразник
Едет в Ригу. Тротуар
Весь в движении. Угар
В головах шумит, проказник.
Полночь. Шумно. Тротуар.
Пьянка. Ругань. Драка. Праздник.
(1938)
Но прием, у Кропивницкого играющий одноразовую роль, у Холина становится жанровым обозначением.
В чем существо этого жанра?
Очевидно, что такого рода синтаксическая структура отсылает к «Ночь, улица, фонарь, аптека» Блока с его безнадежной версией ницшевского «вечного возвращения». Возникающий из этой структуры жанр строится на столкновении двух временных модальностей — с одной стороны, перед нами моментальный снимок; с другой, каждый из этих «снимков» ничем не выделяется в ряду подобных — при всей чудовищности, он запечатлевает обычное, повторяющееся. Нормальное.
Холин задает парадоксальную систему координат: одновременно предметную и абстрактную, отсылающую к узнаваемому и вместе с тем лишенную привязки к местности. При этом строчка, состоящая из одних назывных предложений, помещает действие «здесь и сейчас», вне всякой «эпической» дистанции (c этой точки зрения представляется проблематичным данное Владиславом Кулаковым определение поэзии Холина как «барачного эпоса»).
Улица. Липа. Толпа.
Дом.
Случай с маляром.
Полетел вниз.
Ударился о карниз.
Мозги вдребезги.
***
 Дамба. Клумба. Облезлая липа.
Дамба. Клумба. Облезлая липа.
Дом барачного типа.
Коридор.
18 квартир.
На стене лозунг:
МИРУ — МИР!
Во дворе Иванов
Морит клопов.
Он бухгалтер Гознака.
У Романовых пьянка.
У Барановых драка.
***
Рыба. Икра. Вина.
За витриной продавщица Инна.
Вечером иная картина:
Комната,
Стол,
Диван.
Муж пьян.
Мычит:
— Мы, бля-я...
Хрюкает,
Как свинья.
Храпит
Инна не спит.
Утром снова витрина:
Рыба. Икра. Вина.
***
Ресторан. Ковры. Гардины.
Груди. Затылки. Спины.
Вина.
Бокалы.
Шум.
Иванов угрюм.
Выпил.
Вспомнил, что было вчера:
Дом,
Дети,
Дележ добра,
Соседей рожи.
Изрубил сапоги, гардероб:
Щепки, куски кожи.
На жену заорал:
«Зебра, загоню в гроб!..»
Теще переломал ребра.
Показательно, что стихи из барачного цикла Холина, опубликованные в «Синтаксисе», сопровождались подзаголовком — «отрывок»: за каждым из них мерцает длинная, но однообразная серия подобных случаев. Серийность станет важной особенностью концептуалистского творчества — таким образом, как объяснял, например, Илья Кабаков, формируется лицо персонажного автора , или «имиджа», по выражению Пригова. Но Холин не создает персонажного автора — у него «серийность» заложена в структуру повседневности, постоянно повторяющей свою уродливую норму. («Норма» Сорокина вспоминается здесь не случайно.) Причем для того чтобы возникло ощущение серии, Холину достаточно одного ее члена — повторяемость заложена в механике стихотворения. Нельзя не согласиться с Алексеем Конаковым, писавшим: «тексты Холина более всего похожи на автоматы, на машины, выполняющие однообразную, циклическую работу переноса и преобразования энергии: ременную передачу, зубчатые колеса, кривошипно-шатунный механизм».
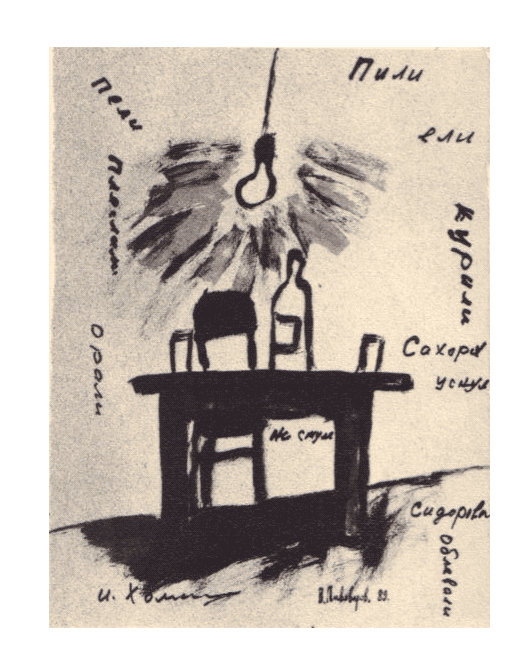 Именно эту парадоксальную норму и задает первое стихотворение цикла «Заборы. Помойки. Афиши. Рекламы». В отличие от нервного блоковского ямба со спондеем на первой стопе, стихотворение Холина написано четырехстопным амфибрахием без единого пиррихия на весь текст. Более того, в первой строке на каждое слово-предложение приходится стопа — т. е. синтаксический и метрический ритм совпадают, что создает эффект скандирования. Впечатление чуть ли не бодрого марша подкрепляется парной — банальной — рифмой (всегда женской), причем рифма на первой и второй строках (рекламы — хлама) возвращается на пятой и шестой (диваны — тараканы).
Именно эту парадоксальную норму и задает первое стихотворение цикла «Заборы. Помойки. Афиши. Рекламы». В отличие от нервного блоковского ямба со спондеем на первой стопе, стихотворение Холина написано четырехстопным амфибрахием без единого пиррихия на весь текст. Более того, в первой строке на каждое слово-предложение приходится стопа — т. е. синтаксический и метрический ритм совпадают, что создает эффект скандирования. Впечатление чуть ли не бодрого марша подкрепляется парной — банальной — рифмой (всегда женской), причем рифма на первой и второй строках (рекламы — хлама) возвращается на пятой и шестой (диваны — тараканы).
Четырехстопный амфибрахий, как было отмечено Ольгой Седаковой, ассоциируется с «Чудом» Бориса Пастернака из «Стихов доктора Живаго» и девятым стихотворением из «Подражания Корану» Пушкина, в свою очередь перекликающимся с «Песнью араба над могилою коня» (1809–1810) Жуковского (также с парной рифмовкой). Все это стихи с явственной метафизической семантикой — Седакова даже называет возникающий семантический орел «религиозным амфибрахием». Добавим, что этим же «религиозным амфибрахием» написаны и стихотворение Пастернака «Сестра моя — жизнь», и «Гимн Советского Союза» (если не считать рефрена) на стихи Михалкова и Эль-Регистана.
Знал ли Холин «Чудо» Пастернака (1947), неизвестно (мог, конечно, учитывая многих посетителей лианозовского «салона») — но есть еще один хронологически близкий и, скорее всего, известный Холину образец — «Лесное озеро» Николая Заболоцкого, написанное в 1938-м, но опубликованное в 1956-м. Это метафизическое стихотворение Седакова также уверенно причисляет к традиции «религиозного амфибрахия».
Перекличка со стихотворением Заболоцкого особенно примечательна. Заметим, что, несмотря на перекрестную рифму, «Лесное озеро» также открывается двустишием с парной рифмовкой «Опять мне блеснула, окована сном,/ Хрустальная чаша во мраке лесном». В обоих стихотворениях точка зрения лирического героя находится в движении. У Заболоцкого лирический герой приходит к лесному озеру, средоточию красоты и «источнику правды», через «страшный мир» природы —
Сквозь битвы деревьев и волчьи сраженья,
Где пьют насекомые сок из растенья,
Где буйствуют стебли и стонут цветы,
Где хищными тварями правит природа...
Можно предположить, что «толпы животных и диких зверей» у Заболоцкого преобразуются у Холина в клопов, тараканов и мух, роящихся в барачном уюте. Но самая важная связь между этими стихотворениями, по-видимому, кроется в вопросе Заболоцкого, на который дает свой ответ Холин: «Откуда в трущобах такое величье?».
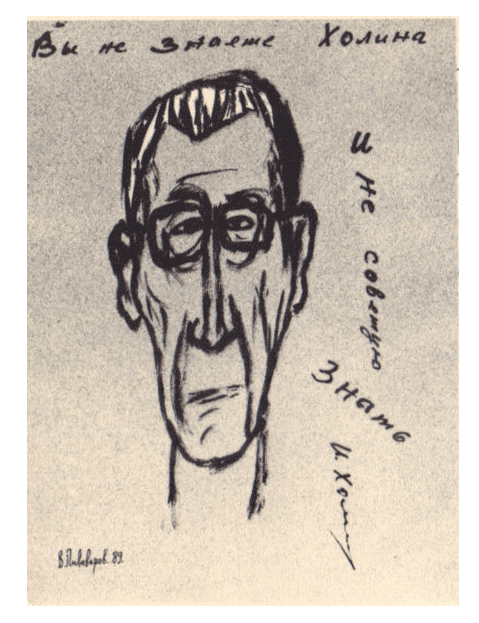 «Заболоцкий писал эти стихи в эшелоне, везущем его в лагерь», — комментирует «Лесное озере» Ольга Седакова. Холину ГУЛАГ тоже был известен не понаслышке. Сын умершего от тифа кадрового офицера царской армии, девятилетним отданный матерью в детдом, он прошел и через трудовую колонию, и через службу в армии, и четыре года фронта. И через тюрьму в Лианозово — именно там, еще будучи расконвоированным зэком, он знакомится с семьей Кропивницких, ядром будущей «лианозовской школы»: Александра Володина пишет, как, «отбывая двухлетний тюремный срок в Лианозово, Холин зашел за книгами в местную библиотеку (ему разрешалось иногда выходить за пределы зоны); библиотекаршей оказалась Ольга Ананьевна Потапова, жена Евгения Леонидовича Кропивницкого».
«Заболоцкий писал эти стихи в эшелоне, везущем его в лагерь», — комментирует «Лесное озере» Ольга Седакова. Холину ГУЛАГ тоже был известен не понаслышке. Сын умершего от тифа кадрового офицера царской армии, девятилетним отданный матерью в детдом, он прошел и через трудовую колонию, и через службу в армии, и четыре года фронта. И через тюрьму в Лианозово — именно там, еще будучи расконвоированным зэком, он знакомится с семьей Кропивницких, ядром будущей «лианозовской школы»: Александра Володина пишет, как, «отбывая двухлетний тюремный срок в Лианозово, Холин зашел за книгами в местную библиотеку (ему разрешалось иногда выходить за пределы зоны); библиотекаршей оказалась Ольга Ананьевна Потапова, жена Евгения Леонидовича Кропивницкого».
Иначе говоря в барак к Кропивницким Холин приходит прямо из ГУЛАГа.
Вот почему жителей бараков — и пролетариев среди них — Холин не воспринимает как угнетенный класс. Лишен он и какого бы то ни было превосходства — культурного или классового — по отношению к ним. Как это ни странно может прозвучать, для него — это и есть советский средний класс, ведь он смотрит на них из лагерного барака. Не случайно взгляд цепляется за «барачный уют»: «Бараки. В бараках уют. Тишина.// Зеркальные шкапы. Комоды. Диваны... Висят абажуры. Тускнеют плафоны. /Лежат на постелях ленивые жены». Сломанная строка подчеркивает параллелизм старух, хлопочущих на кухнях (есть еда! — потому-то они и рифмуются с мухами), и мужчин «на службе» — не на фабрике или в мастерской, — эту еду оплачивающих. Если бы не барак с клопами и тараканами, то это стихи могли бы прозвучать как дежурное советское «обличение мещанства» с абажуром и геранью.
Но это не обличенье, хоть Холин и называл себя сатириком. Само движение взгляда в стихотворении — это движение из внешнего мира с его заборами, афишами, сараями, вовнутрь барака — к мебели, клопам, ленивым женам и старухам. Лирический субъект из ситуации исключения (вчерашний зэк) получает новый статус, сам становится если не жителем, то по крайней мере гостем барака (пока мужчины на службе).
Если «Лесное озеро» Заболоцкого завершается явлением ночного неба в глади озера, то у Холина небо входит в начальную «рамку» барачного уюта: «Сияет небес голубых глубина» (ср. у Заболоцкого «При первом сиянье вечерней звезды»). Правда, у Холина небо является не только в банальном обличье «голубой глубины» (напомним, название первой, стихотворной, книги Андрея Платонова), но и в паре с пародийной смертью: «Сараи — могилы различного хлама». Свет, тем не менее, проникает и в бараки, хотя и тускнеет по пути, отражаясь в «зеркальных шкапах», повторяясь в абажурах и тускнеющих плафонах (двойное указание на атрибуты ламп в одной строке вряд ли случайно).
Можно многое нафантазировать насчет мух (благо, Илья Кабаков насытил этот мотив богатством смыслов). Да, конечно, тут и падаль, и дерьмо, и помойка. При желании — Вельзевул и Эринии. Можно связать их с возвращением к «голубой глубине» неба — в конце концов, они единственные способны к полету в барачном пространстве. А можно увидеть в них просто хаотическое движение жизни.
Жизни в агамбеновском смысле — zoe: чисто биологической, голой, одинаковой для животных, насекомых и лишенных субъектности людей. Показательно, что и Холин настойчиво снимает различие между вещами, насекомыми и людьми, барачный мир населяющими. Триада «клопы, тараканы, мухи» уравновешена в стихотворении триадой «мужья, жены, старухи», и обе соотнесены с триадой «Зеркальные шкапы. Комоды. Диваны». Синтаксические параллелизмы только подчеркивают эти сходства: «В бараках уют... В обоях клопы»; «На столах тараканы... на постелях ленивые жены»; «Мужчины на службе. На кухнях старухи».
Пара «Мужчины на службе. На кухнях старухи», впрочем, отличается от других отмеченных выше параллелизмов — во-первых, тем, что отправленные служить мужчины явно размыкают границы барачного уюта, во-вторых, тем, что старухи на кухнях так же деятельны, как и назойливые мухи, чем нарушают объявленную «тишину» «барачного уюта».
Однако все равно — это zoe, просто жизнь в своей биологической наготе.
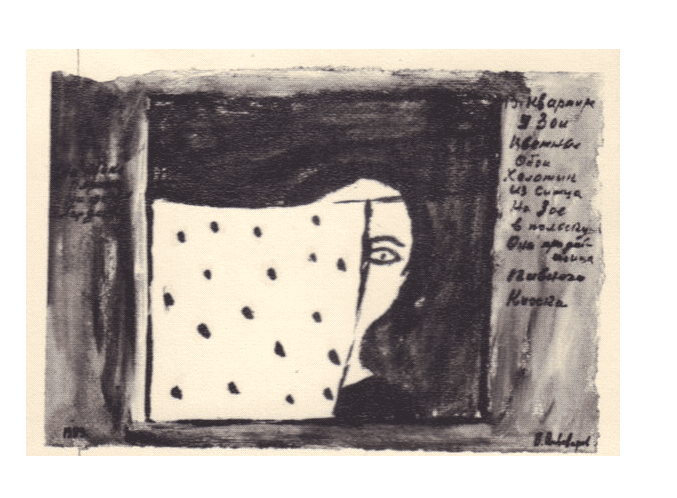 Как читать это стихотворение? Бывший заключенный — низведенный до статуса home sacer, воплощение zoe, приходит — а вернее, допущен — в барачный уют советского среднего класса. Но, войдя, он обнаруживает внутри все ту же голую жизнь, чистую биологию (вспомним еще раз Заболоцкого: «Где хищными тварями правит природа»). Хорошо это или плохо?
Как читать это стихотворение? Бывший заключенный — низведенный до статуса home sacer, воплощение zoe, приходит — а вернее, допущен — в барачный уют советского среднего класса. Но, войдя, он обнаруживает внутри все ту же голую жизнь, чистую биологию (вспомним еще раз Заболоцкого: «Где хищными тварями правит природа»). Хорошо это или плохо?
Холин явно не склонен к однозначности. В одном из стихотворений цикла он помещает Адама и Еву в барачном аду:
Адам
Токарь-инструментальщик
Ева
Слесарь-лекальщик
Место работы
Завод «Пеношлак»
Место жительства
Общежитье
Барак
Хуже Ада
Но сам этот ад, как видно по первому стихотворению цикла, вовсе не чужд уюта. Более того, барачный ад — это попытка жизни в окрестностях или на руинах еще более страшного ада — тюремного, гулаговского, из которого пришел сам автор. Тут, вероятно, и кроется ответ на вопрос о том, почему Холин в этом стихотворении прибегает к «религиозному амфибрахию» и придает ему почти маршево-оптимистическое звучание.
Валерий Подорога, рассуждая о времени после Освенцима и ГУЛАГа, характеризовал посткатастрофическое состояние как постоянную борьбу за выживание, как «минималистическое и совершенно призрачное существование, где человеческое упразднено».
Холин, рисуя мир после ГУЛАГа, выходит за пределы минимализма и призрачности — он видит зеркальные шкапы, комоды, диваны. В барачном аду есть пускай тусклый, но свет. Из него видно небо. Здесь еще нет детей, но уже есть мухи.
Или как пишет Рымбу: «Обратная сторона этой тотальной иронии и жестокого объективизма — это ужас, горечь по отношению к угнетенному народу, угнетенному в результате „великой революции” пролетарию, распиханному по баракам и все же существующему в своей ужасной витальности».
Иначе говоря, метафизика этого стихотворения оптимистична, несмотря на гротеск. Сталин сдох, ГУЛАГ закрывается, люди, живущие по соседству с тюрьмой, учатся просто жить, а не выживать.
Всюду жизнь. Голая жизнь.
Это не так мало, как кажется. Потому что даже голая жизнь — это все-таки уже не смерть. Так звучит в холинской редакции пастернаковская «Сестра моя — жизнь».
Но ведь возможен и другой взгляд. И он воплощает тоску по другой жизни — за пределами биологических нужд и радостей. Собственно, поэзия и есть самое прямое воплощение этой тоски. И с точки зрения поэзии уютный барак оказывается не антитезой лагеря, а его продолжением.
«Тот, кто оказывался в лагере, передвигался в пространстве неразличения между внешним и внутренним, исключением и правилом, дозволенным и запрещенным, где сами понятия субъектного права и юридической защиты не имели более смысла... Поэтому лагерь становится парадигмой политического пространства в тот момент, когда политика оказывается биополитикой, a homo sacer и гражданин оказываются виртуально неразличимыми,» — пишет Джорджио Агамбен. Далее, как все помнят, Агамбен доказывает, что именно лагерь становится парадигмой современного общества, в котором биополитика заменила политику: «Из лагерей нельзя вернуться к классической политике; в лагерях исчезли границы между городом и домом, возможность отличить наше биологическое тело от тела политического, то, что невыразимо и немо, от того, что можно сообщить и сказать, отнята у нас раз и навсегда».
Но ведь этот переход совершает и Холин — обнаруживая неразличимость вещей, людей и насекомых в бараке, находящемся уже за пределами лагерной колючки. По-своему, на своем языке, граничащем с немотой, он открывает, что политика превратилась в биополитику, а человек оказался лишенным субъектности носителем голой жизни.
«Сестра моя —жизнь» исполняется на мотив «Гимна Советского Союза».
Если и дальше читать Холина сквозь Агамбена, то именно барак воплощает именно состояние модерности — советской и не только советской, — в котором, по слову философа, «все мы — потенциальные homines sacri». Это состояние, в котором стираются границы между лагерем и городом, создавая «зону радикального неразличения». Собственно, рождение этой новой социальности и фиксирует Холин в первом стихотворении барачного цикла — именно в этом смысл всех его сопряжений и параллелизмов, спаянных единством мощного «религиозного амфибрахия» .
Автор благодарит Михаила Павловца за важные замечания и советы.