«Упрямство бывает двух видов: мужским и женским»
О неизданном «свифтианском» романе Владимира Шарова
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
О Владимире Шарове обычно говорят как об «авторе девяти романов». И действительно, последний из них, «Царство Агамемнона», писатель закончил прямо перед своим уходом, а «сказку о принце Борнейском», которая планировалась следом, так и не начал писать. Однако среди неизданных текстов Владимира Александровича есть не только стихи, эссе и киносценарий (который в следующем году будет опубликован в журнале «Новое литературное обозрение»), но и один роман под названием «Путешествие Джона Крафта, или История моего рода». С докладом о нем на посвященной Шарову конференции, о которой «Горький» уже рассказывал, выступила вдова писателя Ольга Дунаевская.
Роман этот Владимир Александрович считал «ученическим» и был против его публикации, поэтому у широкой публики вряд ли будет возможность с ним ознакомиться. Опись архива писателя в РГАЛИ и работа над его личным сайтом с цифровыми копиями рукописей еще ведутся, а потому исследователи тоже не смогут получить доступ к роману в ближайшее время. Тем не менее значение этого текста для шарововедения огромно, поэтому нам хотелось бы рассказать о нем хотя бы в общих чертах, не нарушая при этом воли писателя.
В домашнем архиве Шарова сохранилось несколько рукописных и одна машинописная копии текста. Последняя представляет собой его единственную чистовую версию и, по всей видимости, наиболее позднюю редакцию. Ее объем — 347 пронумерованных листов формата А4 с односторонней печатью. Еще два листа не пронумерованы: самый первый — с заглавием; и еще один со «съехавшей» подстрочной сноской — между листами 133 и 134. Собственно путешествию Джона Крафта посвящено всего около 170 листов, то есть чуть меньше половины полного объема текста.
Другая половина — «вставные» пьеса, четыре рассказа, два историософских эссе, стихи и скрепляющие роман воедино заметки «От переводчика». Почти все эти тексты в том же виде, в каком они встречаются в «Путешествии...», уже были опубликованы (это не касается пьесы, одного из эссе и заметок). Это даже привело к коллизии: изначально сотрудники РГАЛИ сочли «Путешествие...» только наработками к первому опубликованному роману Владимира Александровича «След в след».
Поэтому для того, чтобы «демифологизировать» роман и ввести его в научный дискурс о Шарове, мы и подготовили эту публикацию. Ведь «Путешествие Джона Крафта...» — это «творческая мастерская» писателя, до чрезвычайности «оголяющая» его метод. Тем не менее структура романа довольно неустойчива, а потому для более простой навигации по тексту он сопровожден указанием страниц машинописи, на которых описываются пересказываемые нами события. Специально для «Горького» текст доклада был значительно расширен и уточнен.
Литературой Владимир Шаров начал заниматься в первой половине 1970-х годов. Писал стихи — «природную» философскую лирику — и сказки. Сказок было немного, выделялась из них одна — «Десять историй о Щене». Она была написана в 1974 году и впервые вышла в свет семь лет спустя. Судьба ее оказалась счастливой: она издавалась много раз и даже вошла в антологию мировой сказки, вышедшую в Праге.
Первым крупным произведением писателя стал роман «Путешествие Джона Крафта, или История моего рода». Активная работа над ним велась в 1974–1978 годах, однако вплоть до начала восьмидесятых роман дополнялся новыми фрагментами и целыми вставными новеллами. Многие из них несколько лет спустя вошли в первый «взрослый» роман Шарова «След в след».
Сам автор считал «Путешествие...» романом «ученическим» и разрешения на его публикацию не давал. Поэтому цель моего доклада состоит в том, чтобы хотя бы кратко пересказать его содержание. Это важно потому, что уже в «Путешествии...» возникают все основополагающие для творчества Шарова темы, идеи и образы. По этой причине я и обозначаю этот текст как «предварительный роман», или «прероман», писателя.
События начинаются в январе 1596 года. Английский купец по имени Джон Крафт отправляется из Плимута в португальскую Бразилию. Его шхуна «Белая роза» загружена мануфактурой, зеркалами и коваными изделиями, которые он везет на продажу. В сильную бурю корабль терпит крушение. Вся команда погибает — спасается только Крафт, уцепившись за большую доску. Утром, когда ураган стихает, выясняется, что всю ночь он держался за письменный стол, стоявший в кают-компании. Еды в его ящиках Крафт не находит, зато находит стопку сухой бумаги, перо и пузырек чернил. Чтобы отвлечься, Крафт, сидя на столешнице, принимается писать отчет о торговых операциях. Поняв, что сальдо будет положительным (корабль был застрахован), он, несмотря на свое бедственное положение, испытывает большое облегчение (стр. 1–3).
В это время «стол-корабль» причаливает к берегу. Крафт выламывает дно одного из ящиков и пишет на нем: «Земля Божественного спасения, колония Ее Величества Елизаветы I Английской», — тем самым объявляя остров английской колонией, и отправляется на его исследование. Несколько дней спустя он набредает на небольшой городок с домами из красного кирпича, ютящийся в зеленой долине. Но идиллия обманчива: в столице Земли Божественного спасения происходит очередная революция. Крафт попадает в гущу таинственных событий, по итогам которых оказывается в тюрьме — в одной камере с королем, которого сам же помог свергнуть. Король, однако, не держит на Крафта зла. Он говорит, что их камера — это комната, издавна принадлежавшая летописцам острова. После этого король начинает свой рассказ, посвященный его — острова — истории (стр. 3–27).
Летописец, автор, переводчик найденной кем-то рукописи или дневника — все они станут важнейшими масками для Шарова-повествователя. Так формируется идеологический подход автора к своим героям: среди них нет ни плохих, ни хороших, автор не занимает никакой позиции и никому не дает оценок, ибо текст принадлежит не ему, а какому-то другому лицу со своими взглядами и точкой зрения. Таковы оставивший после себя странные записи, продолжающиеся даже после его смерти, французский комедиограф XVII века Сертан и советский переводчик с бретонского Миша Берлин из «Репетиций»; таков давний насельник геронтологического отделения больницы имени Ганнушкина, хранитель мистической истории мадам де Сталь Ифраимов из «До и во время»; такова ведущая свой фантастический дневник, возвращающий страну в прошлое, Вера Радостина из «Старой девочки»; наконец, таков сотрудник дома престарелых Глеб, записывающий воспоминания Галины-Электры, из «Царства Агамемнона». Список этот можно продолжать долго.
Может показаться, что в этом тексте Шаров ориентируется главным образом на «Путешествие Гулливера» Свифта. Это так, но только отчасти: гораздо большее влияние на него оказала «История одного города» Салтыкова-Щедрина. Впрочем, обоих писателей Шаров очень любил.
Удивительным образом оказывается, что первопоселенцы острова (потомки англосаксов, участвовавших в битве при Гастингсе в XI веке) тоже назвали его Земля Божественного спасения (стр. 27–32). Проходящая перед нами череда его королей, может, и не очень напоминает глуповских градоначальников, зато происходящие с ними события явно отсылают к отечественной истории. Так, уже второй король острова — всех их поначалу звали Джейкобы — поставил перед собой цель в кратчайшие сроки достичь величия Римской империи. Джейкоб II обещал, что ее достигнет уже нынешнее поколение (стр. 32–34).
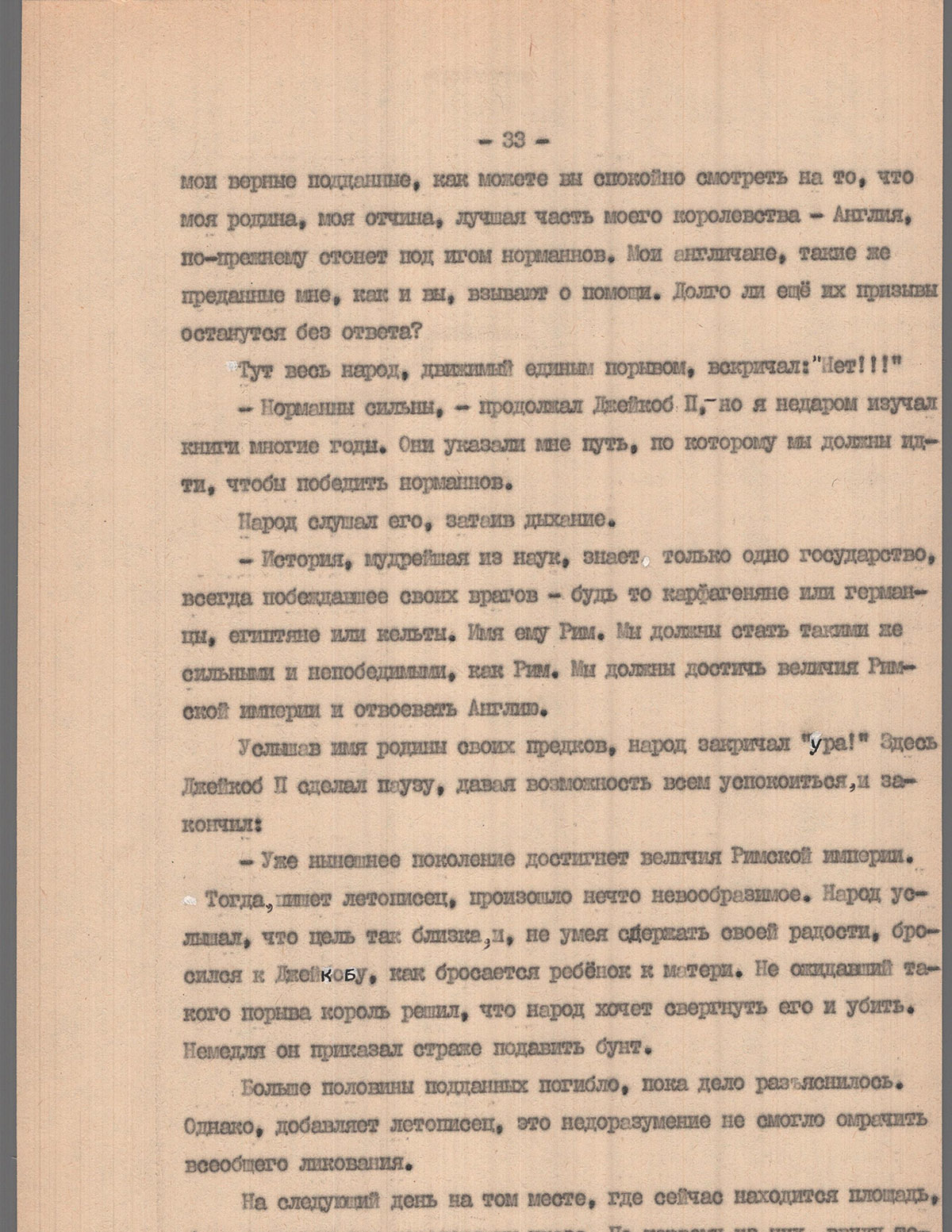
Однако ни он, ни один из его потомков не способны этого обеспечить. Каждый из королей находит тому свои оправдания. Все, что может встать у них на пути, попадает под запрет: малярия, канализация (свинец, из которого отливают водопроводные трубы, отравляет организм и приводит к умственной отсталости), гражданские войны, торговля с Китаем, христианство, варварские нашествия (стр. 34–38).
После тринадцатого короля династия Джейкобов сменилась династией Джеймсов. Балом теперь правят королевские советники из рода Педлдубов. Так, вдохновленный индийской философией советник Джеймса I, Томас Педлдуб, исходя из принципа недеяния, предложил лишить народ вообще всего, однако и это не помогло в достижении величия Римской империи (стр. 38–46). Советник Джеймса III, Питер Педлдуб, проанализировав кодекс царя Хаммурапи и древнеегипетские обычаи, пришел к выводу, что спасти остров могут могущественные воины-химеры, получающиеся от совокупления человека с животным (стр. 46–53). Ричард Педлдуб, советник Джеймса IV, занимается исследованием обезьян. Он верит, что люди произошли от них, и считает, что, если всех обезьян посредством труда сделать людьми, государство достигнет невиданного могущества. Однако обезьяны, став людьми, быстро спиваются и возвращаются к первоначальному облику (стр. 54–63).
В ходе очередного династического переворота Джон I свергает с престола Джеймс V, но первые его потомки оказываются столь невзрачны, что королю оказывается нечего о них рассказать (стр. 63–68). Однако уже при Джоне IV происходит невероятное — останавливается ход истории. Жена советника этого короля, Магда Педлдуб, славилась невероятным упрямством, и даже смерть не смогла этого изменить: из упрямства тело Магды отказывалось разлагаться. Этот случай привлекает внимание королевского лекаря Клио, пытавшегося открыть секрет бессмертия. Он прокрадывается в дом Педлдубов и отламывает мизинец Магды, а затем проводит над ним лабораторные исследования. Но вместо секрета бессмертия лекарь открывает секрет исторического развития: оказывается, именно упрямство является «источником всякого неповиновения, всякого сопротивления, источником бунтов и восстаний».
Клио также выясняет, что упрямство бывает двух видов: мужским и женским. В этом факте кроется спасение государства. Нужно только измельчить оба вида упрямства до состояния всепроникающей пыли и сделать две камеры: одну с мужским, другую — с женским упрямством, и помещать туда младенцев сразу после рождения. Девочек — в камеру с мужским упрямством, мальчиков — с женским. Так, чтобы они взаимно уничтожались и приводили природное неповиновение в соответствие с требованиями субординации. Упрямство короля должно по такой схеме быть больше упрямства его подданных, упрямство его советника — больше упрямства остальных, и так вплоть до каждой отдельной семьи, где упрямство отца больше упрямства домочадцев. При повышении в должности человека надлежит поместить в камеру с упрямством того же пола, а при понижении — противоположного.
Король принял реформу Клио, и уже через три недели все жители острова побывали в новых камерах. Восстание, которое застал Крафт, не должно было привести ни к чему, ведь упрямство недовольных горожан кончилось бы быстрее упрямства короля. Но Крафт, не подвергшийся обработке женским упрямством, внес в него свою лепту, в результате чего и оказался в заточении вместе со старым королем, чье место занял советник Педлдуб. На этом заканчивается история острова и начинается его настоящее. Король обращается к Крафту с такими словами: «Скоро мы будем свободны. В нашу камеру напустят столько женского упрямства, что мы станем безопасны» (стр. 68–82).
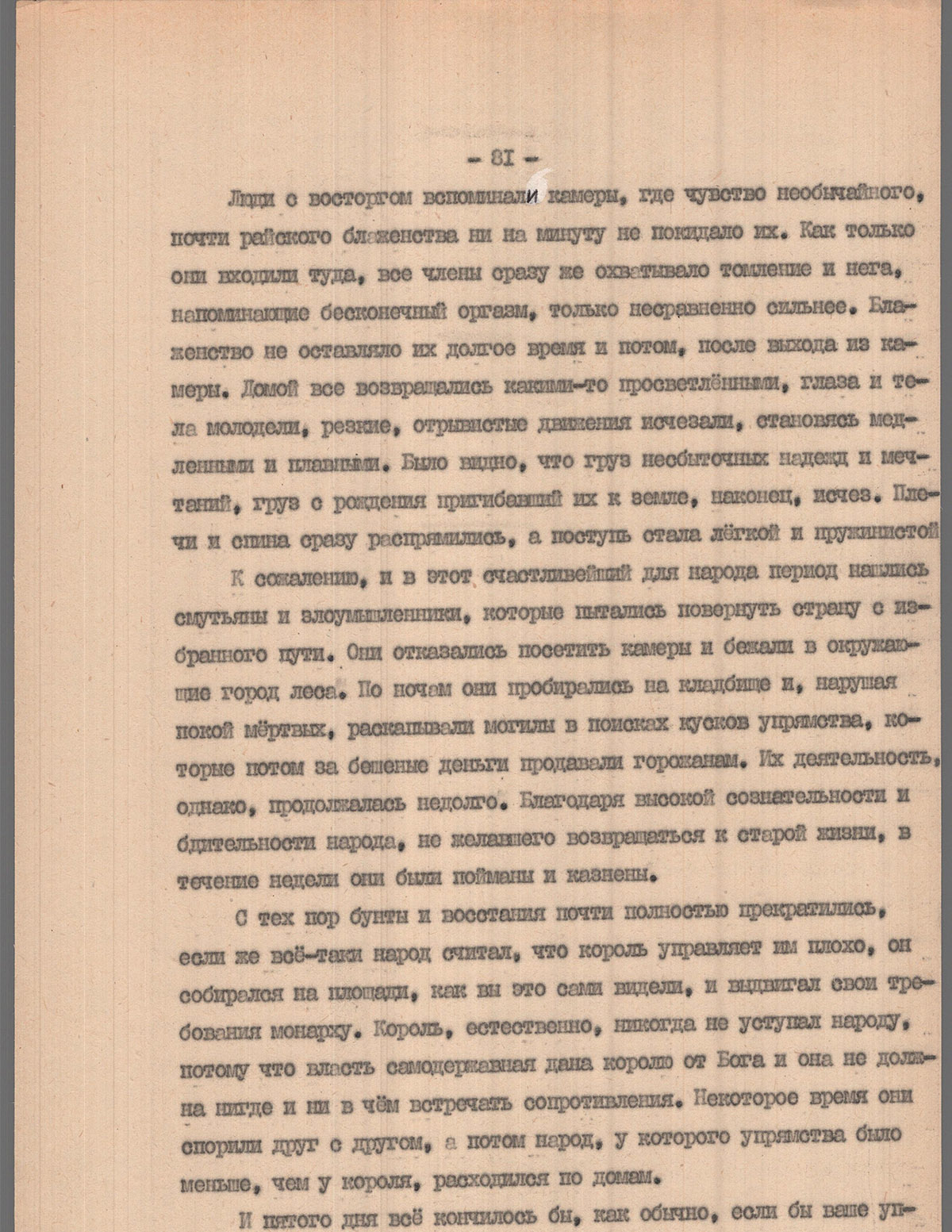
Однако Крафт не готов пойти на такие жертвы: своего величия компания «Крафт и сыновья» достигла только благодаря врожденному упрямству ее основателей. Он подговаривает короля сбежать и заставить министра Педлдуба пройти обработку женским упрямством. Так и происходит, восстанавливается статус-кво. Однако король устал от царствования. Полюбивший Крафта, он хочет усыновить его и передать ему власть. Тогда у Крафта будет выбор: либо тихо править на приютившем его острове, либо пойти войной на Елизавету Английскую. Крафт отказывается — дед воспитал его патриотом. Тогда король дарит Крафту новый корабль и дает ему команду верных матросов, чтобы он отправился домой (стр. 82–93).
Тут важно обратить внимание на еще одно обстоятельство. Во всех романах, начиная с «Путешествия...», писателя волнует проблема усыновления, которая переходит в проблему кровного и идеологического наследования. Кто имеет больше прав: кровные дети или преемники-ученики? Шаров решает этот вопрос радикально, хотя не перестает ставить его и дальше: восприемники, кажется, имеют бо́льшую власть над наследием учителя. Многие его персонажи бездетны и усыновляют того, к кому прикипели, или просто того, с кем их сводит жизнь. Они делают этого «приблудного» своим наследником, тем самым отягощая его собственной судьбой.
Описание путешествия Крафта прерывается вставкой «От переводчика» — человека, который нашел рукописи Крафта и подготовил их к публикации. Он молодой советский журналист, мечтающий стать большим писателем (стр. 94–100). В текст он включает свои собственные тексты. Первый из них — безымянная абсурдистская пьеса. Она описывает жизнь молодой пары в съемной квартире, одна из комнат которой всегда заперта. Сначала пара думает, что там сложены вещи хозяев квартиры, но оказывается, что все это время там жил мужчина, являющийся как бы олицетворением взаимных чувств пары. Они вступают в странные «тройственные» отношения (стр. 100–103). После этого следуют разрозненные фрагменты о жизни журналиста (стр. 103–110), затем — еще один его текст, безымянная новелла о рисовом зерне (стр. 110–126). Впоследствии она вошла в первый опубликованный роман писателя «След в след».
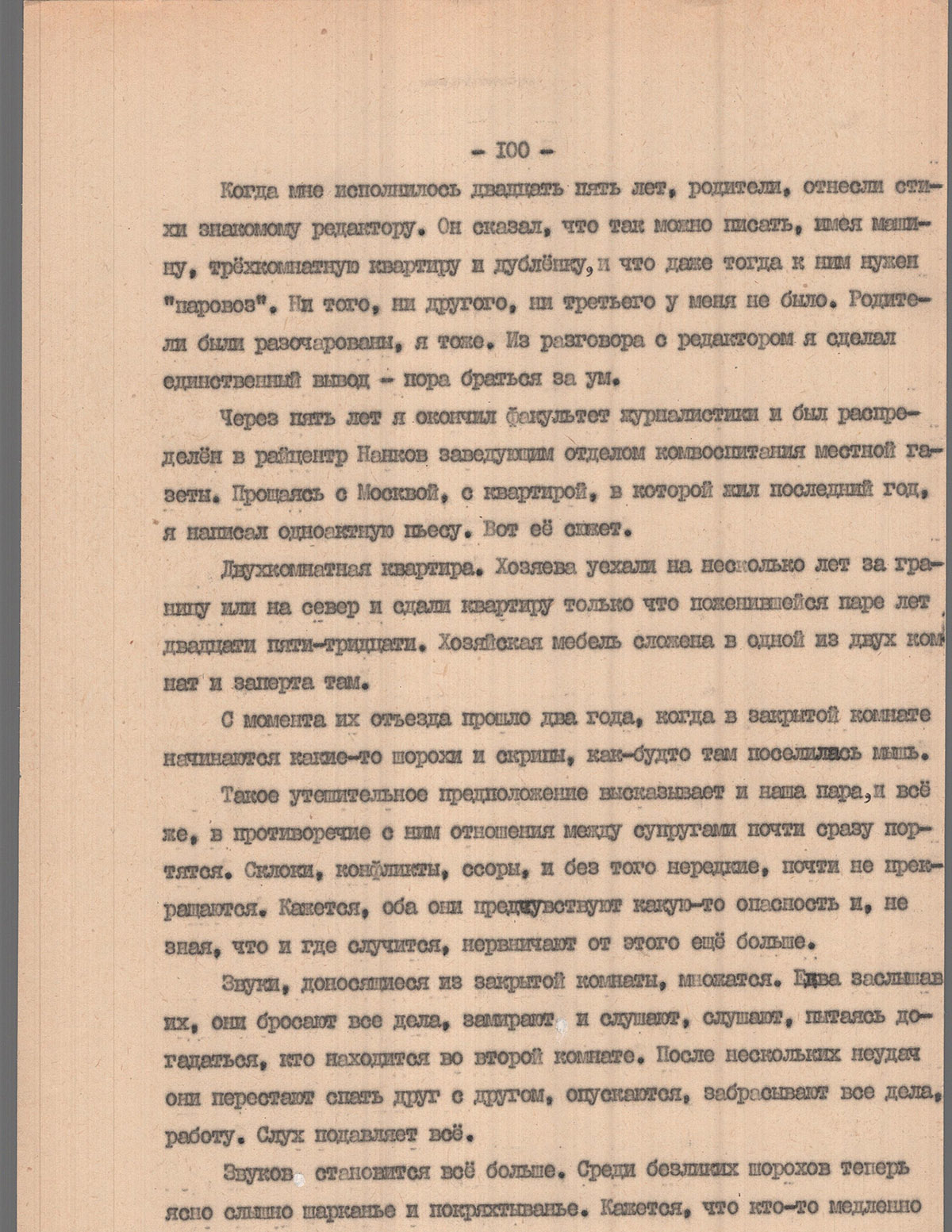
Тем временем Крафт возобновляет свой путь, лежащий через необычный архипелаг, каждый остров которого — маленькое государство со своим самобытным устройством. На первом из таких живут люди, научившиеся использовать метеоризм для совершения невероятно высоких прыжков. Так они спасаются от диких зверей, в избытке населяющих остров (стр. 126–131). Второй остров — остров кораллов-гермофродитов: у них мужской низ и женский верх. Соединяет их соитие. Коралл-мать сама вынашивает своего мужа и любовника. К этой идее писатель возвращается в романе «До и во время», описывая отношения мадам де Сталь и Сталина. Островитяне строят из кораллов дома, а желая остановить их рост — кастрируют (стр. 131–135). Третий остров носит название Сагара. Его жители относятся к телам с той же легкостью, что и к одеждам, поэтому заключают браки, основываясь только на душевных качествах друг друга, что приводит команду Крафта в изумление. Браки эти заключаются единожды в жизни и отличаются особой прочностью (стр. 135–138).
После этого Крафт оказывается на острове, который сам называет островом Фаталистов, или Фортуны. Его жители славились невероятным азартом и мастерством во всех мыслимых играх. При этом чем старше был человек, тем более простые игры он предпочитал. Младенцы играют в бридж, а старики — в «орел или решку». В их государстве был только один закон — он запрещал шулерство. Отмечу, что как раз в это время Шаров научился играть в спортивный бридж. Он вообще обожал игры. Футбол и бридж сопровождали его на протяжении всей жизни. Играл он великолепно и всегда брал себе самого слабого партнера, чтобы вытянуть партию с ним. В этом заключался особый кураж. «Орел или решка» вспоминались им в минуты безделья лет до двадцати пяти.
Островитяне рассказывают Крафту о долгой и славной истории их острова, давно ставшего экономическим центром архипелага (жители окрестных островов съезжаются на него, чтобы провести досуг, и оставляют там все свои деньги). В ответ Крафт рассказывает о наиболее славных страницах истории Англии, среди прочего — о победе английского флота над Великой армадой. Жители острова, никогда не слышавшие о войнах, воспринимают их как игру и просят Крафта научить в них играть. Крафт делит остров на две равные части, оставив посередине клочок ничейной земли — за него и будет вестись война. Право на выстрел островитяне получают, побеждая в «орел или решку». Этим же способом будет определяться, кому быть убитым. Довольно быстро фаталисты перебивают друг друга, и Крафт еле уносит с острова ноги (стр. 138–147).
После этого следует очередная вставка «От переводчика», который представляет на суд читателя два своих «журналистских очерка»: «Важное задание» и «Семейная революция» (стр. 148–170 и 170–178 соответственно). Оба они под теми же названиями вошли в роман «След в след», поэтому мы не станем на них останавливаться.
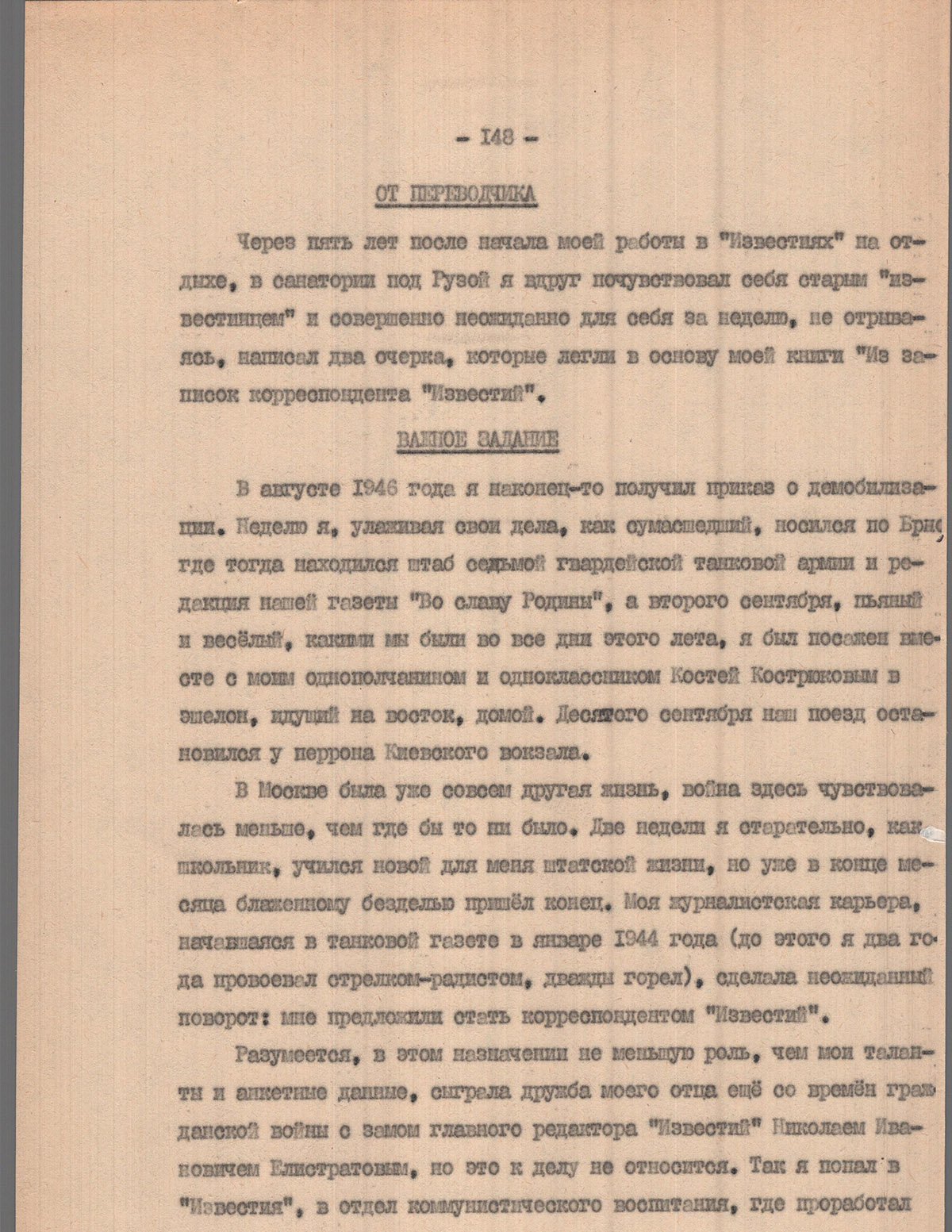
На следующем острове Крафт встречает своего друга Джека Томпсона, давным-давно затерявшегося где-то в Южных морях. Он единственный здоровый человек на острове. Туземцы же переболели некой болезнью, после которой тело распадается на части. Человек, по их убеждениям, симбиоз разных частей, каждая из которых может жить и полностью своей жизнью. И лишь раз в году им суждено соединиться в правильном порядке для продолжения рода (стр. 178–186). Идею можно применить и к развитию отдельных народов: например, российский антрополог Николай Данилевский видел в истории не единый путь, по которому поступательно движется все человечество, а независимое развитие множества локальных цивилизаций.
Затем корабль Крафта прибивается к острову Махан. Когда-то мужчины и женщины жили на нем в мире и процветании. Общество было матриархальным, и мужчины поклонялись женщинам. Но появился смутьян, который говорил, что господству женщин должен прийти конец. Его последователи основали тайное общество «Парная семья» и стали готовить государственный переворот. Женщины дали отпор, и началась война. Остров поделили на мужскую и женскую части, а на нейтральной полосе раз в год, в День священного фаллоса, самые способные к деторождению мужчины и женщины занимаются «бесконтактным сексом». Дети носят балахоны, скрывающие их половые признаки, чтобы матери не отказывались от сыновей раньше времени. Когда ребенку исполняется три месяца, балахон снимается: девочек матери оставляют при себе, а мальчиков перекидывают на мужскую половину острова (стр. 187–204).
Шхуна Крафта тем временем снова терпит крушение, и он попадает на остров каннибалов. Он почти оказывается съеден, но тут по острову проносится сильный смерч, который сбрасывает незадачливого путешественника в воду (стр. 204–209). Придя в себя, Крафт обнаруживает, что оказался на спине гигантского кита. На ней выстроена опрятная деревня, а жители на лужайке слушают проповедь священника о Страшном суде. И недаром: кит медленно погружается в воду. Крафта, как и прочих, смывает, но ему снова везет: он попадает в брюхо зверя, которое тоже оказывается обитаемым. В аппендиксе Крафт находит каморку летописца, запечатлевающего циклы «жизни и смерти» на спине чудовища. На протяжении следующих трех с половиной лет Крафт воспитывается как его преемник, пока во время одной из прогулок по внутренностям зверя поток испражнений внезапно не выносит его в открытый океан (стр. 209–215). Там его подбирает голландский корабль и наконец привозит Крафта домой в Англию, к жене и детям. Какое-то время он отдыхает от своих приключений дома, в Плимуте, но море по-прежнему влечет Крафта, и он снова отправляется в рискованное путешествие — на сей раз через Московию в Китай (стр. 215–218).
В Северном море корабль Крафта теснят льды, но все же ему удается причалить к острову, где когда-то застряли англичане и голландцы, приглашенные в Московию Иваном Грозным. Они везли семена и побеги тропических растений для оранжерей. Один из них, Уайт, уверен, что природа всего живого едина и из мхов и лишайников можно путем скрещивания и перебора признаков вывести, например, кокосовую пальму, которая не боится морозов. Уайт сходит с ума, так и не добившись результатов. Его ученик, Браун, идет своим путем. Он уверен, что секрет кроется в психологии: лишайники нужно не скрещивать друг с другом, а перевоспитывать. Чтобы доказать, что его теория верна, он втайне от всех перевоспитывает гнуса в североазиатского слона — мамонта, основываясь на следующих принципах: посильность задач, воспитание в труде, коллективизм... В отличие от учителя, Браун преуспел: на выведение первого мамонта из гнуса ему потребовался всего месяц (стр. 218–222).
Затем Крафт с новой командой попадает на остров Дран. Его населяют неандертальцы. Тысячи лет назад их «родственники» из тропиков, опасаясь передела власти между вождями разных племен, перерубили мост, соединяющий Дран с остальным миром. Так неандертальцы оказались в полной изоляции. История на их острове остановила свой ход. Но они не жалуются: всё надеются очистить остров ото льда, чтобы начать выращивать на нем растения. А пока тем же льдом и питаются (стр. 222–226).
Тема конца истории для Шарова очень важна, он снова и снова к ней возвращается. Точка зрения Фрэнсиса Фукуямы, который в книге «Конец истории и последний человек» видит либеральную западную демократию как финал эволюции и конец идеологических противостояний, не представляется Шарову правдоподобной. Свое мнение на этот счет он излагает, например, в последнем прижизненном эссе — «Октябрь семнадцатого и конец истории», — где пишет: «С точки зрения высшей власти, обещанный прежде конец истории откладывается. Напротив, ее ожесточение и дальше будет лишь нарастать».
Дальнейшая история Крафта передается нам от третьего лица в следующей вставке «От переводчика». Корабль наконец входит в Архангельский порт. Затем команда отправляется в Вологду, где Крафт нанимает на службу старого еврея Абрама. Тот утверждает, что он прямой потомок Исаака — брата Иисуса Христа. После Вологды — Москва, Тобольск, Кяхта, Пекин, Гуанчжоу. В ходе путешествия Крафт и Абрам много беседуют о русской истории. Рассказчик отмечает, что их мысли схожи с мыслями его деда, которые и включает в дальнейшее повествование (стр. 226–229).
Эти мысли изложены в формате тезисов, коих насчитывается девяносто пять — как лютеровских. Дед готовил их для своей книги «Философия русской истории» (стр. 229–258). Пересказывать их не имеет смысла: в качестве эссе этот фрагмент был опубликован в журнале «Страна и мир» в Мюнхене в 1990 году (№ 3) под слегка измененным названием «Психология русской истории», а затем вошел и в состав первого издания романа «Следа в след» в журнале «Урал» в 1991 году (№ 8-9). В московских журналах этот фрагмент просили изъять как стилистически не соответствующий остальному роману. Шаров понимал это и сам, а потому в последующих изданиях романа его уже нет. Но тогда он боялся, что эта публикация станет не только первой, но и последней, а потому хотел включить в нее все, что к тому моменту написал. В «Урал» же роман приняли без изъятий.
Историософские рассуждения прерываются стихами рассказчика (стр. 258–271). Несколько из них тоже вошли в «След в след», но все вместе они были впервые опубликованы только в сборнике «Стихи» в издательстве «L’Âge d’Homme — Наш дом» в 1996 году. Двадцать лет спустя, в 2016 году, он был переиздан ArsisBooks под названием «Рама воды». Затем записки деда возобновляются. На этот раз они представляют собой более разрозненные мысли (стр. 271–325). Пожалуй, центральной из них является идея цикличности истории, которая сформулирована так: «Русские заворожены своей историей, ее повторяемостью, предсказуемостью, неотвратимостью, ее закономерностью».
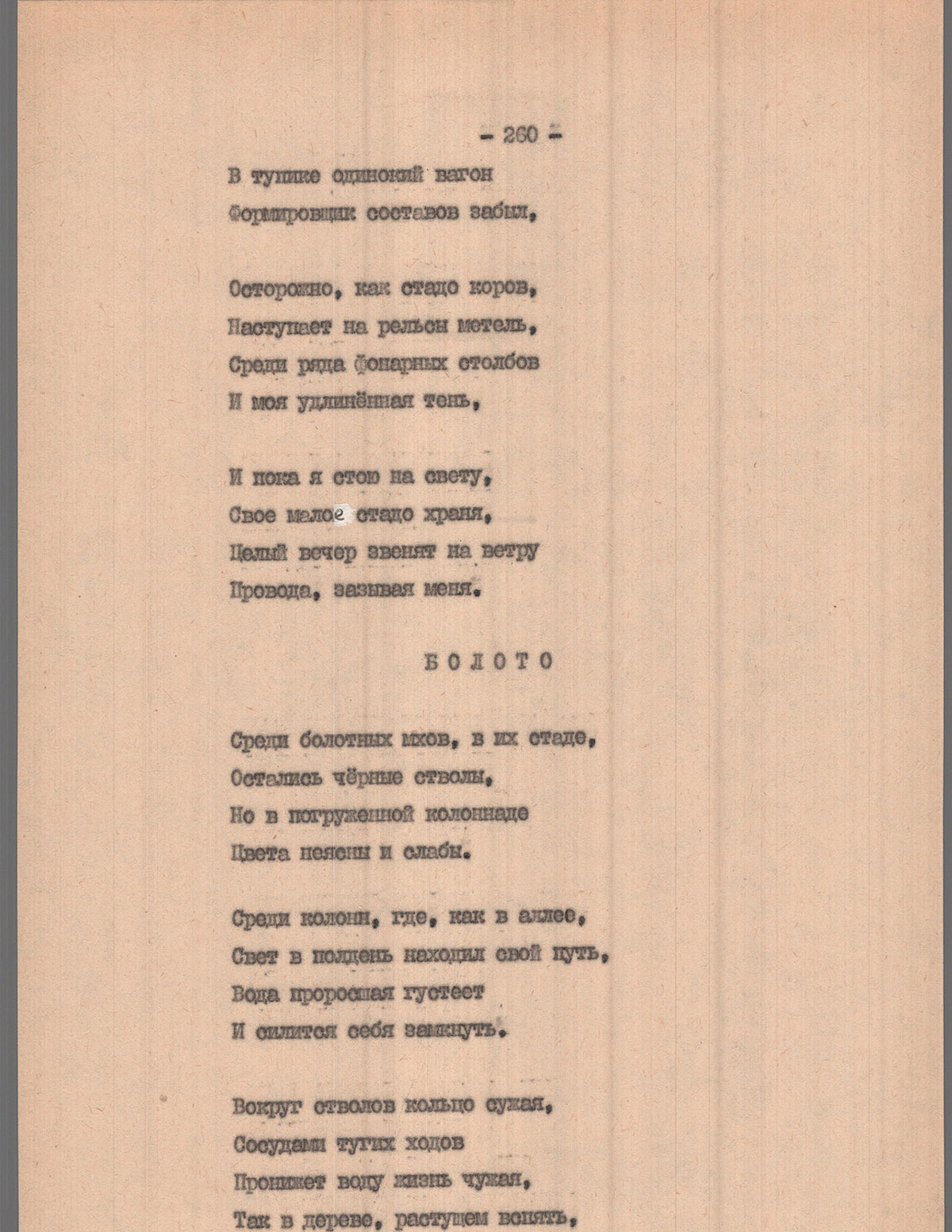
Для Шарова эта цикличность проявляется во всем — от названия Земли Божественного спасения, данного ей дважды, до собственно русской истории, в которой решения правителей и следующие за ними катастрофы повторяются друг за другом с точностью до буквы. Цикличность писатель видит и в отдельных человеческих судьбах. Роман «След в след» потому и назван так, что все в нем происходит «по кругу»: жизни, любови и смерти героев, рождения и усыновления, и даже восстания, которые один из героев устраивает в сумасшедшем доме. То же касается и «Репетиций» — репетиций Второго пришествия, и «Возвращения в Египет», построенного вокруг идеи истории, прочитанной как палиндром, и других романов писателя.
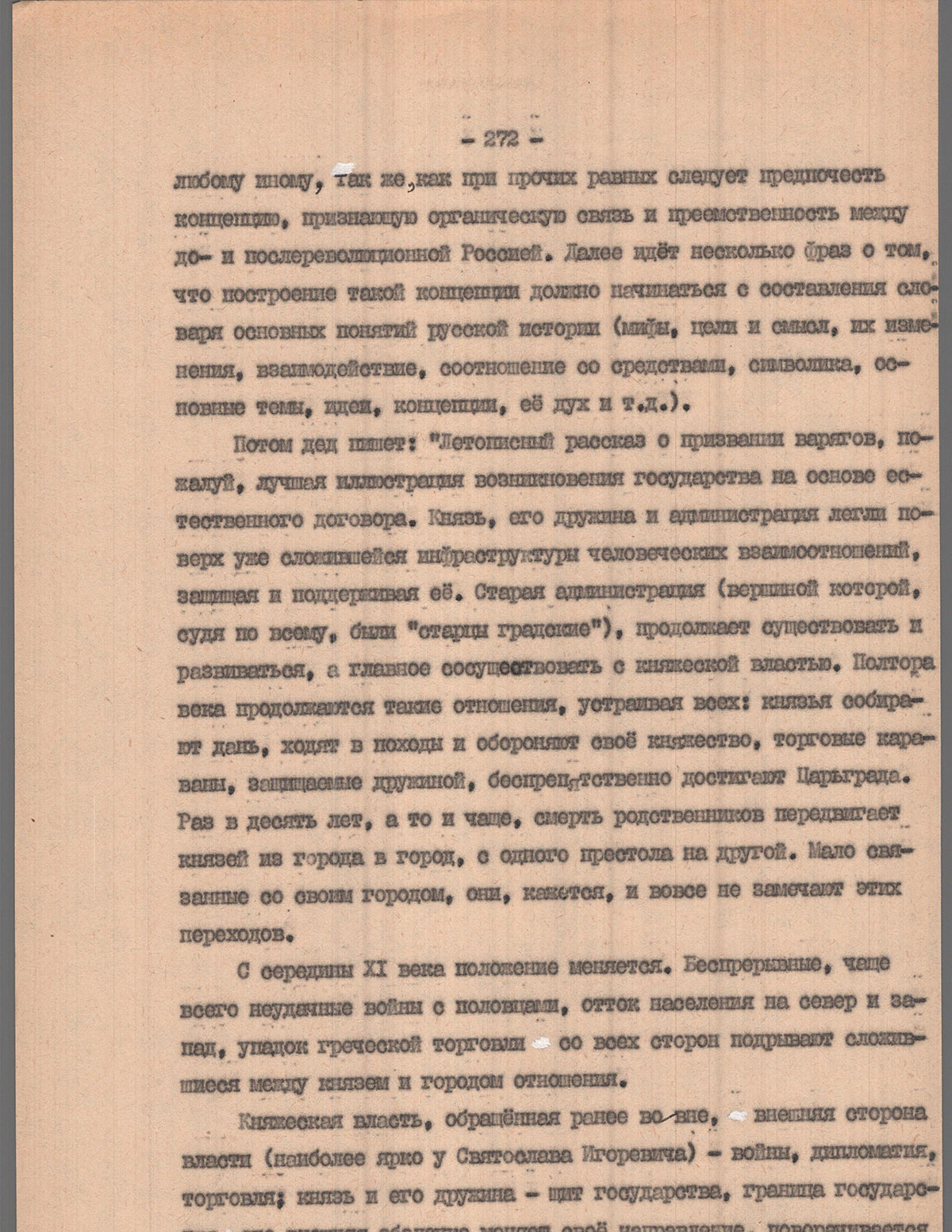
За записками следует рассказ под названием «История моего рода», который как бы распадается на две части: первая посвящена дяде и отцу рассказчика (стр. 325–331; впоследствии этот фрагмент стал частью эссе «Когда Шера в форме»), а вторая — брату Иисуса Христа Исааку и его потомкам (стр. 331–341), среди которых оказывается и рассказчик. «История моего рода» тоже целиком вошла в «След в след».
Роман заканчивается благополучным возвращением Крафта из Китая, однако по пути он оказывается еще на одном острове — Айна, что на местном языке означает «Прекрасный». На нем нет правительства в привычном смысле этого слова: все живут небольшими общинами по интересам (самую большую такую, на сто человек, объединяет любовь к хоровому пению) с полным самоуправлением. Торговли тоже нет: каждая община производит то, что ей необходимо для жизни, а излишки раз в год перераспределяются между всеми по потребностям. Переходы между общинами свободны. Приемлемы любые взгляды и пути решения конфликтов, кроме насильственных. Преступников переселяют в горные районы острова, пока они не перевоспитаются. На этом острове все счастливы. Последние слова в рукописи Крафта: «Жизнь моя была увенчана достойной наградой. Я ушел на покой и зажил вместе с моей ненаглядной Джейн и нашими детьми. На этом я кончаю свои записки, так как моя дальнейшая судьба представляет интерес только для моих близких» (стр. 341–347).
Несмотря на стилистические и структурные неровности, в «Путешествии Джона Крафта...» уже заметна особая поэтика шаровского текста. Скрываясь под маской безымянного переводчика и совмещая остроумность с серьезностью, писатель не выносит никаких оценочных суждений по отношению к происходящему. То же касается и особой шаровской ритмики: как и последующие романы, «Путешествие...» он писал без знаков препинания, обозначая новое предложение только заглавной буквой. Каждую фразу несколько раз прочитывал вслух, добиваясь, чтобы она звучала как стихотворение в прозе. Особый ритмический рисунок текста уподоблял его прочтение вслух камланию.
Таким образом, первое крупное произведение Владимира Шарова — роман «Путешествие Джона Крафта, или История моего рода», — будучи для него ученическим, заложило как идейные, так и стилистические основы будущего творчества писателя, очертило, пусть и пунктирно, круг близких ему тем, сюжетов и точек зрения на них.