Унтер аллес: как русские классики возненавидели немцев
Немцы-антигерои в русской литературе — от Пушкина и Достоевского до Чехова и Лескова
Напыщенные, самовлюбленные, чрезмерно педантичные, патологически расчетливые и при этом бесконечно тупые. Такими немцы обычно предстают на страницах русской литературы. Светлана Волошина — о том, как и почему именно немцы среди всех иностранцев заслужили особую нелюбовь наших классиков.
«Губернатор фон Лембке глуп, как бабий пуп».
Такую лаконичную характеристику получил немец-губернатор в набросках Достоевского к роману «Бесы».
Подобное определение лицам этнокорпорации, известной под названием «русские немцы», авторы русской классической литературы давали нередко.
Здесь кроется не совсем очевидный для наших современников конфликт. Сниженные образы русских немцев были для отечественных писателей послепетровского времени способом борьбы с их прототипами. К сожалению (для писателей и современных им читателей-патриотов), ни констатацией, ни сатирическим изображением интеллекта, характера и образа жизни «русских немцев» проблема не решалась. Проблема тем не менее была очевидной для всей иерархии сословий — от крестьян и выше.
Немцы, проживавшие в Российской империи, сильно отличались от других иностранцев. Французы традиционно были гувернерами и учителями основного иностранного языка, источниками культурного капитала, без которого нахождение в дворянском круге было неполным; кроме того, Франция традиционно экспортировала основные тренды в моде, литературе (и политике), а также предметы роскоши.
Англичане занимались торговлей и инженерным делом, отдельные сумасброды-англофилы нанимали гувернанток для своих детей (вспомним «Барышню-крестьянку» и мисс Жаксон Пушкина) и, в общем, внушали скорее сдержанное уважение.
Итальянцы обычно выступали приглашенными звездами в опере и поэтами-импровизаторами (снова можно вспомнить Пушкина и его «Маленькие трагедии»).
Таким образом, поводов для серьезного недовольства представителями этих европейских народов у русских не было, и в литературе они появляются в основном на вторых ролях — от Наполеона до гувернеров и модисток.
Иное дело было с немцами. Начиная с Петра I, с известным пиком влияния при дворе Анны Иоанновны и ее любимца Бирона, немцы составляли многочисленную сильную партию в административно-бюрократическом аппарате Российской империи (по афоризму Ключевского, в это время «немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка»). Проблема немцев имела несколько аспектов. Во-первых, они занимали ключевые позиции среди высших чинов — как придворных, так военных и гражданских, а также среди научных кадров. Во-вторых, немцев на этих постах было (относительно) много, они держались вместе и образовывали сплоченную монолитную этнокорпорацию. И в-третьих, немцы упорно поддерживали воспроизводство этой корпорации, всеми силами не допуская туда русских конкурентов.
Примечательно, что это разобщение санкционировалось с «самого верха»: известная фраза Николая I «русские дворяне служат государству, немецкие — нам» ясно отделяла овец от козлищ. Славянофил И. С. Аксаков высказывался по этому вопросу ожидаемо более резко: немцы, «преданные Русскому престолу... проповедуют в то же время бой на смерть Русской народности; верные слуги Русского государства, они знать не хотят Русской Земли...», — заявлял он в газете «День».
«„Наемников” явно предпочитают „хозяевам” (ибо русские дворяне, по их мнению, такие же хозяева России, как и император)», — констатирует в своей обстоятельной и фундированной статье «„Хозяева” против „наемников”. Русско-немецкое противостояние в императорской России» историк С. М. Сергеев, к упомянутому труду которого мы и отсылаем любопытствующего читателя.
По понятным причинам нелюбовь к начальству немецкого происхождения находила свой максимум в среде военных. Так, в 1812 г. в неудачах начала войны винили «немца» М. Б. Барклая-де-Толли, который в «Войне и мире» Толстого называется то «непопулярным», то «ненавистным». Причину же этой «непопулярности» доступно объясняет князь Андрей:
«Ну, у отца твоего немец-лакей, и он прекрасный лакей и удовлетворит всем его нуждам лучше тебя, и пускай он служит; но ежели отец при смерти болен, ты прогонишь лакея и своими непривычными, неловкими руками станешь ходить за отцом и лучше успокоишь его, чем искусный, но чужой человек. Так и сделали с Барклаем. Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр, но как только она в опасности; нужен свой, родной человек».
Будни бравых немцев-офицеров Глазенапа и Бутенопа (на них следует равняться!) иронично изображены Козьмой Прутковым в «Военных афоризмах». Никак нельзя отказать себе в удовольствии обстоятельного цитирования:
Марш вперед! Ура... Россия!
Лишь амбиция была б!
Брали форты не такие
Бутеноп и Глазенап!
Продолжай атаку смело,
Хоть тебе и пуля в лоб —
Посмотри, как лезут в дело
Глазенап и Бутеноп...
Если двигаются тихо,
Не жалей солдатских... —
Посмотри, как порют лихо
Глазенап и Бутеноп.
Но враги уж отступают,
В их сердца проник озноб —
Посмотри, как их пугают
Глазенап и Бутеноп.
Стой! Шабаш! Языци сдались,
Каждый стал России раб —
Посмотри, как запыхались
Бутеноп и Глазенап...
Любопытно, что фамилия «Глазенап» вовсе не выдумка насмешливого авторского коллектива: достаточно заглянуть в Википедию, чтоб в этом удостовериться. Там, среди многочисленных немецких выходцев Глазенапов XIX века, значатся два генерал-лейтенанта, один контр-адмирал Русского императорского флота, участник наполеоновских войн и «один из главных деятелей покорения Кавказа».
Нельзя не отметить: высокопоставленных чиновников-немцев в русской классике совсем немного. Однако их малый след в литературе связан не с отсутствием реалий, а с серьезными институциональными запретами: эта социально-этническая группа бережно охраняла свои интересы и не допускала обсуждения (и тем более осуждения) себя в печати. Помимо этого, цензура — как при Николае I, так и при Александре II — крайне отрицательно относилась к «выставлению» высших чинов в литературе и журналистике.
Так, журнал «Европеец» был остановлен в 1832 г. из-за статьи И. В. Киреевского «„Горе от ума” — на московском театре», чьи пассажи против «русских немцев» показались Николаю I «самой неприличной и непристойной выходкой на счет находящихся в России иностранцев».
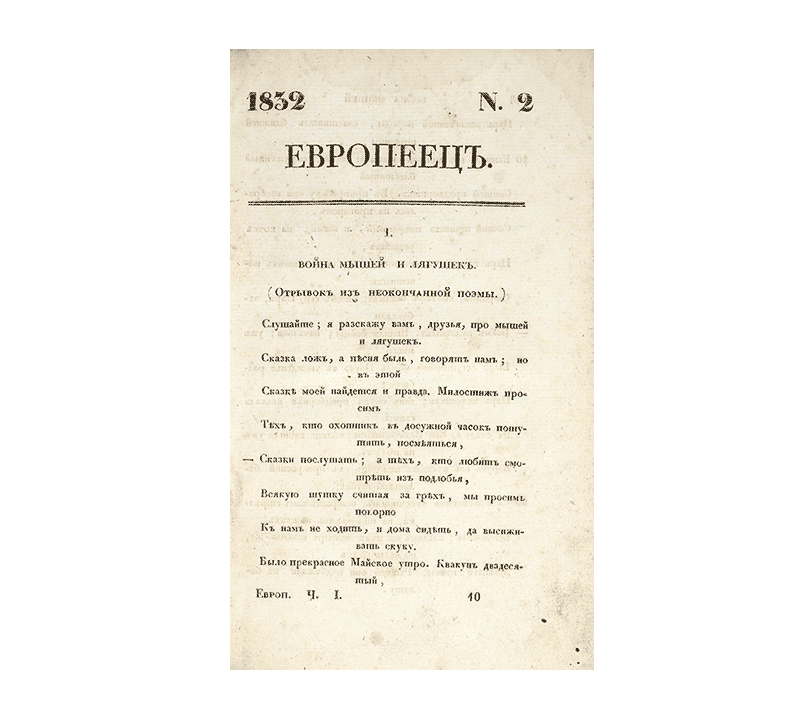 Уже позже, при Александре II, цензуру не прошла комедия А. А. Потехина «Рыцари нашего времени». В ней, как записал в своем дневнике цензор А. В. Никитенко, «два главные действующие лица: баронесса немка и немец Кукук — оба мошенники, оплетающие и надувающие русских. Театральное начальство признало это непозволительным и велело немцев преобразовать в русских, из чего выходит, что русские могут быть подлецами, а немцы нет».
Уже позже, при Александре II, цензуру не прошла комедия А. А. Потехина «Рыцари нашего времени». В ней, как записал в своем дневнике цензор А. В. Никитенко, «два главные действующие лица: баронесса немка и немец Кукук — оба мошенники, оплетающие и надувающие русских. Театральное начальство признало это непозволительным и велело немцев преобразовать в русских, из чего выходит, что русские могут быть подлецами, а немцы нет».
В этой комедии Потехина (под заглавием «В мутной воде») в изданиях начала XX в. правда действуют немка по происхождению, графиня Амалия Егоровна и ее протеже — молодой немец Кукук, недавно закончивший Дерптский университет. Неприятная графиня добивается назначения Кукука управляющим имением своей падчерицы, чтобы вытянуть из богатого наследства девушки максимальный для себя доход, и для этого выгоняет старых преданных (русских!) слуг. Молодость и образование побеждают: Кукук обманывает и графа, и свою патронессу, уговорив богатую наследницу на брак с ним. Сложно сказать, представляет ли это издание комедии первоначальный или уже исправленный автором вариант, но немцы там смотрятся и правда бедствием: с помощью интриг они захватывают господские деньги и имения и тем самым обретают власть. Выразителем народной правды в комедии выступает пожилая преданная экономка Марфа Петровна:
«Вишь ты, немецкая душа... как увивается, — сетует она на ухаживания Кукука за молодой наследницей, — Чувствует, что господское дитя... Плут народ, эти немцы, ох, плуты... Вот, кажется, ни в жизнь бы на свою землю не пустила».
Последняя реплика в комедии, принадлежащая сыну бывшего управляющего, выглядит и своеобразным авторским резюме. «Мы далеко не пойдем, а Кукукам на Руси дорога широкая!» — говорит кандидат Московского университета, всухую проигравший ровеснику-немцу.
Среди немногочисленных высокопоставленных немцев в русской литературе нельзя не отметить уже упомянутого «глупого, как бабий пуп» губернатора фон Лембке из «Бесов» Достоевского.
Федор Михайлович, не жалея сарказма, прямо описывает Лембке как типичного представителя привилегированного «племени», ввиду цензуры объясняя происхождение этой привилегии природой, а не администрацией:
«Андрей Антонович фон Лембке принадлежал к тому фаворизованному (природой) племени, которого в России числится по календарю несколько сот тысяч и которое, может, и само не знает, что составляет в ней всею своею массой один строго организованный союз. И, уж разумеется, союз не предумышленный и не выдуманный, а существующий в целом племени сам по себе, без слов и без договору, как нечто нравственно обязательное, и состоящий во взаимной поддержке всех членов этого племени одного другим всегда, везде и при каких бы то ни было обстоятельствах».
Учился Лембке «довольно тупо», однако вызывал симпатию товарищей — тем, что «всех смешил, правда выходками весьма нехитрыми, разве лишь циническими, но поставил это себе целью».
Позже Лембке сделал вполне приличную карьеру, будучи продвигаем по службе членами упомянутой этнокорпорации:
«Прошли годы, и карьера его устроилась. Он все служил по видным местам, и все под начальством единоплеменников, и дослужился наконец до весьма значительного, сравнительно с его летами, чина».
Однако тут карьера его приобрела неожиданный поворот: женившись «вместо какой-нибудь ожидаемой Минны или Эрнестины» на амбициозной старой деве с протекцией, Лембке «получил известный чин и известный орден», а затем был назначен начальником одной из губерний.
Из краткого жизнеописания Лембке читатель узнает, что тот имел и литературные притязания: написал повесть, которую не приняли в журнал, а потом и роман — творения, явно достойные своего нищего духом создателя.
В любой же неприятной и нервной ситуации Лембке принимался за сооружение бумажных игрушек: механического театра и вокзала («над этою хитрою штукой он просидел целый год»).
Привыкшему к авторским намекам читателю ясно, что немец Лембке крайне ограниченный человек: предел его свободной мысли — театр из бумаги; предел его служебных амбиций — «какое-нибудь самостоятельное казенное местечко, с зависящим от его распоряжений приемом казенных дров»; предел его власти — командование немцем Блюмом, про которого известно, что он «всю жизнь пил пиво и у него что-то глуповатое и очень самодовольное в физиономии, как [всегда] у всех немцев».
 Андрей Межулис в роли фон Лембке, сериал «Бесы» (2006 г.), реж. Шультесс
Андрей Межулис в роли фон Лембке, сериал «Бесы» (2006 г.), реж. ШультессВ губернии появляются «бесы»-революционеры, раскачивающие лодку нравственных и государственных устоев, однако мелкий, ограниченный и глуповатый немец, попавший под пяту властной и бестолковой жены, не в состоянии остановить их в самом начале и совладать с хаосом, который в итоге и губит губернатора.
В столкновении с хтонической, неуправляемой и непредсказуемой российской действительностью Лембке ломается, как примитивно сделанный механизм. Немец-губернатор похож на свои рукотворные изделия из бумаги: «оркестр по машинке водил смычками по скрипкам, капельмейстер махал палочкой, а в партере кавалеры и офицеры хлопали в ладоши», однако ничего нового, не заложенного в нехитрую программу, он сделать не мог, а при первой внештатной ситуации сломался так же, как и бумажный театр.
Интересно, что хобби мастерить нечто милое из подручных средств было, видимо, вообще свойственно немцам, — и безмерно раздражало русских. Так, в ранней повести К. Н. Леонтьева «Благодарность (Немцы)» главный герой Федор Федорович Ангст также любит хендмейд, а в состоянии горя искусно мастерит маленький гробик для своей души.
Лембке ломается буквально: он сходит с ума, а его безумный крик «Флибустьеры!» явно относится не только к случайно услышанной фамилии, а к спланированной атаке разбойников-революционеров. (Кстати, немецкий герой Леонтьева также сходит с ума, не выдержав напора тяжелых эмоций.)
Жесткие инвективы в сторону немцев Достоевский готовил и в черновых вариантах романа: так, Шатов в одной из бесед с Князем (будущим Ставрогиным) говорит нечто, никак невозможное в печати:
«Немец — естественный враг России; кто не хочет этого видеть, тот не видит ничего. Чем они хвалятся, что они для нас сделали? Они во всем ниже нас. Их коалиция в России, один другого подсаживает. Заговор 150-летний. По особым обстоятельствам они всегда были наверху. Все бездарности служили в высших чинах с бараньим презрением к русским. Они сосали всю силу России. Их была настоящая коалиция...»
Впрочем, в той же беседе выясняется, что известную национальную сплоченность, характерную для немцев, как раз стоит перенять, и с ее учетом перестроить отечественную административно-бюрократическую систему.
Любопытно, что сюжет о том, как расчетливый, размеренный и ограниченный немец «сломался» при столкновении с российской действительностью, был относительно популярен в отечественной литературе.
 Немец Германн («немец: он расчетлив, вот и все!») из «Пиковой дамы» попытался приспособить к своему расчету даже мистическое. План, как известно, сорвался, и Германн сошел с ума.
Немец Германн («немец: он расчетлив, вот и все!») из «Пиковой дамы» попытался приспособить к своему расчету даже мистическое. План, как известно, сорвался, и Германн сошел с ума.
Не менее трагично (или трагикомично, как кому нравится) закончил свою борьбу с российской хтонической действительностью и Гуго Пекторалис — герой повести Лескова «Железная воля».
Лесков еще в начале повести знакомит читателя с основной ее идеей:
«...справедливые слова одного русского генерала, который говорил про немцев: какая беда, что они умно рассчитывают, а мы им такую глупость подведем, что они и рта разинуть не успеют, чтобы понять ее».
Пекторалис выписан Лесковым как носитель предельных, доведенных до карикатуры качеств «типического немца»: упорства в достижении цели, принципиального действия только прямыми путями, собственного расчета и размеренности. Поначалу успешный, постепенно он теряет все нажитое: деньги, предприятие, жену, уважение окружающих, а затем и саму жизнь, проиграв в состязании по поеданию блинов опытному в этом деле попу. Сюжет повести — прозрачный и простой анекдот, и пространное описание неудач горе-немца (основным качеством которого окажется не национальное упорство, а общечеловеческая глупость) оставляет не совсем приятное чувство: хороши же и русские визави Пекторалиса! Глупый, жадный, неумелый, «ленивейший» и сильно пьющий «мещанин по прозвищу Сафроныч», выпускающий третьесортную продукцию на своем чугунном заводике, выигрывает у упорного немца, — но каким путем! Более того: сам Сафроныч выступает носителем всех худших качеств отечественного фабриканта и человека. Он переиграл упорного немца, но принес ли хоть какую-то прибыль или радость соотечественникам, кроме ксенофобского злорадства?
Этого героя Лескова уже сложно объяснить в парадигме противостояния успешных немцев-чиновников, пользующихся протекцией властей, и честных патриотов-русских. Гуго Пекторалис выглядит типичным плодом ксенофобии, это образ Другого, неприятного одним тем, что является носителем иных, непохожих на привычные качеств и практик.
Сравнение качеств двух народов с выводом «оба хуже» есть и у Салтыкова-Щедрина. В «пьесе» или, по определению автора, «разговоре в одном явлении» под названием «Мальчик в штанах и мальчик без штанов» автор дает набор злых сатирических стереотипов представителей обеих наций.
Автор представляет разницу в социально-экономических условиях, этических, речевых и поведенческих особенностях обоих юных персонажей столь значительной, что они не понимают друг друга, а фантастический немецкий мальчик в штанах не может поначалу и поверить, что где-то взрослые люди ходят без штанов.
«— Но знаешь ли ты, немецкий мальчик, что существует страна, в которой не только мальчики, но даже вполне совершеннолетний камаринский мужик — и тот с голой ... по улице бежит?
— Я еще не учился географии и потому не смею отрицать, что подобная страна возможна. Но... было бы очень жестоко с вашей стороны так шутить, господин!»
В пьесе мальчик без штанов появляется из лужи, а действие происходит на „шоссированной улице” немецкой деревни. „Мальчик в штанах стоит под деревом и размышляет о том, как ему прожить на свете, не огорчая своих родителей”, — иронизирует над немецкой узостью интересов автор.
Русский мальчик ожидаемо не снисходит до прямых ответов на вежливые вопросы об очевидном, и в ответ выражает общее недовольство: „Отчего ты так скучно говоришь?.. Мямлишь, канитель разводишь, слюнями давишься. Инда голову разломило”».
На предложение немца остаться у них жить и работать на хороших условиях мальчик без штанов демонстрирует собственную гордость: «Пища хорошая... А правда ли, немец, что ты за грош черту душу продал?» и переходит к перечню инвектив от русских к немцам, внезапно обретая дар слова газетного публициста:
«Правду ты сказал: есть у вас и культура, и наука, и искусство, и свободные учреждения, да вот что худо: к нам-то вы приходите совсем не с этим, а только чтоб пакостничать. Кто самый бессердечный притеснитель русского рабочего человека? — немец! кто самый безжалостный педагог? — немец! кто самый тупой администратор? — немец!.. И заметь, что сравнительно ваша наука все-таки второго сорта, ваше искусство — тоже, а ваши учреждения — и подавно. Только зависть и жадность у вас первого сорта, и так как вы эту жадность произвольно смешали с правом, то и думаете, что вам предстоит слопать мир. Вот почему вас везде ненавидят, не только у нас, но именно везде».
Сказавши эту убийственную критику, мальчик в салтыковском сне так и остается без штанов, сказав в свою защиту, что на Руси, во-первых, «занятно», а во-вторых, хоть русские и «черту задаром душу отдали», но ведь могут и обратно взять.
Еще одним образом, в котором сконцентрированы типические немецкие качества, выступает фон Корен из повести Чехова «Дуэль».
Мастер нюансов Чехов раскрывает своего героя постепенно: поначалу фон Корен как полный антипод бездельника, лентяя, вруна, слабовольного Лаевского кажется вполне симпатичным персонажем, разве что с некоторыми простительными слабостями.
Фон Корен — «молодой зоолог... приезжавший летом к Черному морю, чтобы изучать эмбриологию медуз». Он деятелен, целеустремлен, физически привлекателен, рационален и доволен собой (самодовольство — немецкая черта, не обойденная вниманием ни одним нашим писателем):
«Самосозерцание доставляло ему едва ли не большее удовольствие, чем осмотр фотографий или пистолета в дорогой оправе. Он был очень доволен и своим лицом, и красиво подстриженной бородкой, и широкими плечами, которые служили очевидным доказательством его хорошего здоровья и крепкого сложения».
 Владимир Высоцкий в роли натуралиста Фон Корена в фильме «Плохой хороший человек», снятого по повести «Дуэль». Режиссер Иосиф Хейфиц
Владимир Высоцкий в роли натуралиста Фон Корена в фильме «Плохой хороший человек», снятого по повести «Дуэль». Режиссер Иосиф ХейфицОднако скоро оказывается, что рационализм фон Корена простирается до идей жестокого искусственного отбора: «Лаевский безусловно вреден и так же опасен для общества, как холерная микроба», — заявляет он, прибавляя: «Утопить его — заслуга».
Поначалу кажется, что фон Корен шутит или увлекается в пылу полемики, однако он действительно чуть не убивает Лаевского на дуэли.
Есть и несколько штрихов, разрывающих якобы целостный облик фон Корена. Его работа по исследованию дна Черного моря, по словам Лаевского, глупость: «Черное море бедно фауной и... на глубине его, благодаря изобилию сероводорода, невозможна органическая жизнь». Фон Корен работает не на благо человечества или науки, он, как и Гуго Пекторалис, лишь тренирует свою железную волю.
«Для фон Корена же люди — щенки и ничтожества, слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни, — небезосновательно раздумывает Лаевский, — Он работает, пойдет в экспедицию и свернет себе там шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущие поколения, идеальная порода людей».
Здесь любопытным образом переосмысливается еще один стереотип немцев — как создателей идеалистической философии. От прекрасных идей и абстракций немцы перешли — во имя тех же абстракций — к равнодушию и жестокости к ближнему.
«Я жалею, что этот человек не на военной службе, — продолжает размышлять Лаевский, — Из него вышел бы превосходный, гениальный полководец. Он умел бы топить в реке свою конницу и делать из трупов мосты, а такая смелость на войне нужнее всяких фортификаций и тактик». Здесь Лаевский неосознанно, но остроумно проводит параллель между фон Кореном и Глазенапом из Козьмы Пруткова.
Впрочем, развязка повести (по сравнению с обычными «фирменными» чеховскими финалами) почти оптимистическая. Все не только остаются живы, но и, пережив потрясение в кульминационной дуэли, пересматривают свое отношение к миру и даже (небывалая для Чехова вещь!) меняются.
Если русские писатели-классики описывали неудачи немцев-прожектерев с долей сатиры или грусти, то успех таких героев описан ими с гораздо большим неодобрением и сарказмом.
Среди удачно выстроивших свою жизнь по плану стоит упомянуть Берга из «Войны и мира» Толстого. Берг аккуратен, опрятен, чист, порядочен, самодоволен, эгоистичен и лишен собственного лица. Его цель — «быть как все», он действует как машина, настроенная на поведение, полностью соответствующее социально принятым нормам. Все, что у других людей объясняется законами психологии, религии, этики или интеллекта, у Берга сведено к встраиванию в социально одобряемую парадигму. Он прилежно выучил правила игры на социальном поле и закономерно преуспевает в этой игре.
«Борис все время похода шел и стоял с Бергом, теперь уже ротным командиром. Берг, во время похода получив роту, успел своею исполнительностью и аккуратностью заслужить доверие начальства и устроил весьма выгодно свои экономические дела...
Берг недаром показывал всем свою раненую в Аустерлицком сражении правую руку и держал совершенно не нужную шпагу в левой. Он так упорно и с такою значительностию рассказывал всем это событие, что все поверили в целесообразность и достоинство этого поступка, и Берг получил за Аустерлиц две награды».
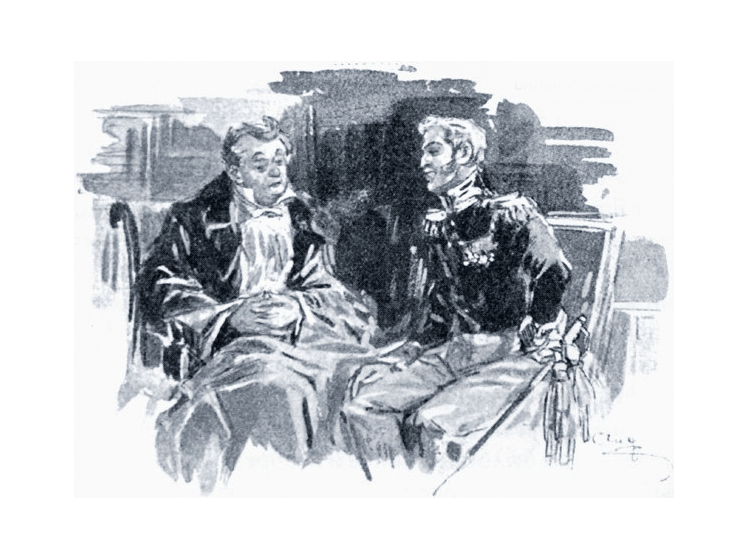 Берг. Иллюстрация А. П. Апсита к роману Л. Н. Толстого «Война и мир»
Берг. Иллюстрация А. П. Апсита к роману Л. Н. Толстого «Война и мир»Толстой педантично предлагает читателю рассмотреть Берга в разных жизненных обстоятельствах, неизменно отмечая отсутствие в нем сердца и настоящего ума. «Проверку» любовью и браком — одним из центральных «оселков» Толстого — Берг ожидаемо не проходит. Он женится тоже на своего рода эмоциональной калеке Вере Ростовой не по любви, а по разумному плану, и Ростовым немного неловко перед дочерью, что они как будто «охотно сбывали ее с рук».
«Четыре года тому назад, встретившись в партере московского театра с товарищем-немцем, Берг указал ему на Веру Ростову и по-немецки сказал: „Das soll mein Weib werden”, и с той минуты решил жениться на ней...
— Вот видите ли, — говорил Берг своему товарищу, которого он называл другом только потому, что он знал, что у всех людей бывают друзья. — Вот видите ли, я все это сообразил, и я бы не женился, ежели бы не обдумал всего, и это почему-нибудь было бы неудобно».
Берг говорит своему «воображаемому» другу о любви к Вере, однако предварительно спрашивает у Ростова-отца о точном размере приданого.
«...Берг, приятно улыбаясь, объяснил, что ежели он не будет знать верно, что́ будет дано за Верой, и не получит вперед хотя части того, что́ назначено ей, то он принужден будет отказаться».
Не случайно после разговора с Бергом Наташа Ростова, уговаривая родителей помочь раненым, выкрикивает худшее из возможных сравнений: «Разве мы немцы какие-нибудь?»
Хорошо устроился и герой романа Н. С. Лескова «Островитяне» Фридрих Шульц. Надо отметить, что «Островитяне», пожалуй, единственный отечественный роман XIX в. о русских немцах, но роман настолько художественно слабый, что делать какие-либо выводы на основе анализа его персонажей затруднительно. Тем не менее Лесков живописует некоторые детали быта и нравов немецкой василеостровской диаспоры, а также (сознательно или нет) создает формулу «хорошего немца»: это немец, который стал по духу русским. Такова главная героиня романа — Маничка Норк — вариант тургеневской девушки, скрещенной с самыми нервными и болезненными героинями раннего Достоевского. В самой Маничке нет уже ничего специфически немецкого, кроме фамилии, а вот муж ее сестры, Фридрих Шульц, куда более характерный персонаж: успешный делец, самодовольный и ограниченный, как и положено стереотипному немцу. Однако он изо всех сил старается стать похожим на русского, старательно использует русские поговорки, но это не вызывает одобрения автора: Шульц — поддельный русский, остающийся внутри немцем.
«— Без соли, без хлеба — худая беседа. Наш брат, русский человек, любит почавкать, — начинает Фридрих Фридрихович, давая вам чувствовать, что когда он десять минут назад называл себя немецким человеком, то это он шутил, а что в самом-то деле он-то и есть настоящий русский человек, и вслед за этой оговоркой Шульц заводит за хлебом-солью беседу, в которой уж гостю приходится только молчать и слушать Фридриха Фридриховича со всяческим, впрочем, правом хвалить его ум, его добродетель, его честность, его жену, его лошадь, его мебель, его хлеб-соль и его сигары.
Человек этот, как я уже сказал выше, с первой же встречи показался мне образцом самой хорошей порядочности, но... бог его знает что в нем было такое, что как-то не располагало к нему и не влекло. Фридрих Фридрихович был и хлебосол, и человек не только готовый на всякую послугу, но даже напрашивавшийся на нее; он и патриотизму русскому льстил, стараясь как нельзя более во всем русить...»
Впрочем, ничего плохого в романе Шульц не сделал, а в финале дал кров теще и сестре жены.
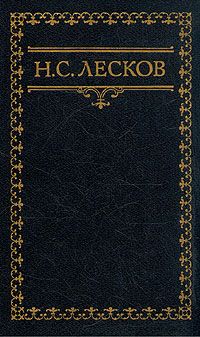
Среди успешно устроившихся немцев, с тихой экспансией реализующих свои семейно-национальные интересы, можно вспомнить и остзейских родственниц (двух жен и мать) главного героя повести Лескова «Колыванский муж».
Отец героя предупреждал его о вредном влиянии, которое могут оказать на него немцы и о возможной ассимиляции:
«— Это хорошо, — я ни слова не возражаю. Между немцами есть даже очень честные и хорошие люди, но все-таки они немцы... Очень справедливо, но все-таки они немцы и нашего брата русака любят переделывать. Вот ты и смотри, чтобы никак над собою этого не допустить».
Самого «колыванского мужа» они не переделали, однако детей этого отпрыска славянофилов исправно крестили в лютеранской вере.
Подробным жизнеописанием типичной немецкой семьи (Шиммельпфенигов), привычек, манер и карьеры может похвастаться роман В. В. Крестовского «Петербургские трущобы».
«Карл Иванович Шиммельпфениг был санкт-петербургский немец. Его достопочтенный покойный папенька, Иван Карлович Шиммельпфениг, был немцем лифляндским из города Риги и добродетельно содержал аптеку. Когда возлюбленный сын его Карл получил диплом, удостоверявший всех и каждого, что он добропорядочно окончил курс учения, при поведении отлично-благонравном, папенька его, Иван Карлович Шиммельпфениг, написал в Петербург умилительное письмо к старому своему товарищу, действительному статскому советнику Адаму Адамовичу Хундскейзеру, прося пристроить к местечку своего сына, который и был отправлен в Петербург при этом самом письме. Адам Адамович Хундскейзер с радостью определил под свое ведомство юного Карла, и юный Карл сразу же понял, что он крепок и силен высоким покровительством Адама Адамовича, и немедленно поспешил составить себе кодекс необходимых житейских правил, чтобы следовать им неизменно до конца своей жизни».
Автор с документальной точностью повествует о скаредности этих героев, их преданности немецкому же начальству, о поддержке ими немецкого производителя (герой покупает штаны только у соотечественников, ходит только в немецкий театр и пользуется услугами немецкого же парикмахера) и даже о немецкой манере адюльтера: свою (немецкую) любовницу постаревший и вышедший в чины немец выдает замуж за своего же подчиненного, таким образом устраивая их жизни ко благу.
«Впрочем, покровительством Адама Адамыча Хундскейзера он пользовался отчасти и по иной посторонней причине... Адам Адамыч был немножко эпикуреец. Эта слабость достаточно уже устарела для Адама Адамыча, ибо известно, что чем старее становится эпикуреец-смертный, тем более начинает он питать алчность к юности, к молодой свежанине. Но Адам Адамыч был немец, и потому содержать одновременно две слабости казалось ему превышающим его экономию... Думал-думал Адам Адамыч, как бы все это устроить ему — и ничего лучше не придумал, как выдать эту слабость замуж. За кого ее выдать? Естественно, за человека, который, происходя из немецкой же расы, был бы по службе благоугоден ему, как немец и как отлично исполнительный чиновник. Женитьбу на своей слабости Адам Адамыч Хундскейзер считал для подобного немецкого смертного в некотором роде наградою...»
Настоящим памфлетом против немецкого характера выглядит рассказ Чехова «Признательный немец». Некий немец, на чьем лице «были написаны голод, любовь к отечеству и покорность судьбе», ходил по немецким городам то с обезьянкой, то продавая сосиски и со слезами благодарил рассказчика за поданный когда-то талер: «Я никогда не забуду того талера, которым вы спасли от голода меня и мою покойную обезьяну!».
«В третий раз встретил я его в России (in diesem Russland). Здесь он преподавал русским детям древние языки, тригонометрию и теорию музыки. В свободное от уроков время он искал себе место директора железной дороги». И ругал русских на чем свет стоит.
Впрочем, при всем неприятии немцев, нельзя было не признать многие их стереотипные «национальные» качества как полезные и нужные. Активность, деятельность, прямота и честность в делах, исполнительность и профессионализм плохи только в крайнем, карикатурном их проявлении (как у Пекторалиса), но хороши в сбалансированной пропорции. Возможно, это соображение привело к идее «скрещивания» двух полярных мировоззрений, немецкой прививки к русской душе. Своеобразным результатом этого «скрещивания» стал Штольц из романа Гончарова «Обломов», буквально сочетавший в себе отцовскую немецкую и материнскую русскую составляющие.
 Юрий Богатырев в роли Андрея Ивановича Штольца (справа) в фильме Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни И. И. Обломова»
Юрий Богатырев в роли Андрея Ивановича Штольца (справа) в фильме Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни И. И. Обломова»Идея была хороша, но, вероятно, автор всей душой был на стороне своего Обломова, так что теоретически идеальный Штольц на страницах романа оказался несколько плоской фигурой.
Перечислив произведения, где авторами разрабатывался один вариант мифологизированного немецкого характера, нельзя не упомянуть и о другом, полностью ему противоположном. Немцы — создатели и последователи идеалистической философии, несколько поколений русских интеллектуалов и интеллигентов, среди которых были и писатели — «переболели» идеями Гегеля, Фихте, Шеллинга, а произведения романтической немецкой литературы были настольными книгами для многих.
Поэтому закономерно, что «немцы-идеалисты» появились и в отечественной литературе, пример тому — музыкант Лемм в «Дворянском гнезде» Тургенева.
Лемм — печальный, оторванный от жизни герой, и эта оторванность обусловлена не обстоятельствами или характером, а приверженностью его философской идее.
«Поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела, одаренный живым воображением и той смелостью мысли, которая доступна одному германскому племени, Лемм со временем — кто знает? — стал бы в ряду великих композиторов своей родины, если б жизнь иначе его повела...
— Вы, звезды, чистые звезды, — повторил Лемм... — вы взираете одинаково на правых и на виновных... но одни невинные сердцем — или что-нибудь в этом роде... вас понимают, то есть нет, — вас любят. Впрочем, я не поэт, куда мне! Но что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое».
Немец и живая, настоящая, истинная жизнь несовместимы. Он или живет, не поднимая глаз к небу, — приземленными, мелкими мещанскими интересами, его мелочный практицизм не схватывает главного в жизни и тем самым как бы не дорастает до общечеловеческого; или же витает в горних высях теоретических, отвлеченных представлений и надуманных восторгов и горестей, также оторванных от «реальности».
Иногда обе трактовки совмещаются, как например, в сатирическом изображении немцев в «Невском проспекте» Гоголя. Представители романтизма Шиллер и Гофман превращаются у Гоголя в прозаических мещан, рассуждающих о расходе на табак. Возможно, таким образом Гоголь подводил своеобразный итог своему увлечению романтизмом (в виде «Ганца Кюхельгартена»).
«Перед ним сидел Шиллер, — не тот Шиллер, который написал „Вильгельма Телля” и „Историю Тридцатилетней войны”, но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман — не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром».
Помимо упомянутых героев с «тенденцией», русская литература XIX в. наполнена легионом персонажей-немцев, описанных авторами «нейтрально», с фотографической точностью, в манере «натуральной школы» и ее последователей. Эти персонажи программно лишены авторской идеологической нагрузки, как, впрочем, и непрограммной, человеческой симпатии.
Современные писателям «русские немцы» были чиновниками, гувернерами, аптекарями и врачами, проститутками и содержательницами борделей и пансионов, управляющими имениями и негоциантами разного масштаба и честности.
В гоголевском «Ревизоре» можно найти немца-уездного лекаря: этот Христиан Иванович Гибнер памятен читателям тем, что на протяжении пьесы «издает звук, отчасти похожий на букву и и несколько на е».
Итак, русские классические писатели, как выразители духа народного, не любили немца в любых проявлениях и ипостасях. Иногда эта (подсознательная) нелюбовь доходила до того, что немца прямо приравнивали к черту. Так, герой рассказа Чехова «Сапожник и нечистая сила» в своем навеянном водочными парами сне прозревает в заказчике-немце ту самую силу.
Где коренятся причины этой сопернической нелюбви к ближнему Другому — если отойти от исторического, политического и экономического контекстов? Немецкая культура, пожалуй, была всегда любима отечественными интеллектуалами и любителями прекрасного: Гете и Шиллер были их непременным юношеским чтением, немецкие композиторы многими считались высшими выразителями музыкального гения, а Гегеля местные философы усвоили полностью, прибавив «православные окончания и семь русских падежей».
Пожалуй, это принципиальное, полярное несоответствие может быть описано несовпадением социального поля. Отличие принципиальных ценностей, институциональных механизмов, структуры социальных капиталов — культурного, экономического и прочих, а также переход капитала из одного вида в другой, отличие самого взаимодействия агентов в социальном поле — всё это приводило не просто к непониманию, а к взаимному отталкиванию двух народов.
Так, герой романа Достоевского «Игрок» осуждает даже «немецкий способ накопления богатств».
«Все работают, как волы, и все копят деньги, как жиды. Положим, фатер скопил уже столько-то гульденов и рассчитывает на старшего сына, чтобы ему ремесло аль землишку передать; для этого дочери приданого не дают, и она остается в девках. Для этого же младшего сына продают в кабалу аль в солдаты и деньги приобщают к домашнему капиталу... Дальше то, что и старшему тоже не легче: есть там у него такая Амальхен, с которою он сердцем соединился, — но жениться нельзя, потому что гульденов еще столько не накоплено. Тоже ждут благонравно и искренно и с улыбкой на заклание идут. У Амальхен уж щеки ввалились, сохнет. Наконец, лет через двадцать, благосостояние умножилось; гульдены честно и добродетельно скоплены. Фатер благословляет сорокалетнего старшего и тридцатипятилетнюю Амальхен, с иссохшей грудью и красным носом...»
Различия габитуса были так велики, что даже попытки объективного анализа положительных сторон «русских немцев» не приводили к пониманию и примирению.
Впрочем, в русской литературе все же есть безусловно положительный образ немца — и, что примечательно, у упомянутого уже Салтыкова-Щедрина. В рассказе «Старческое горе, или Непредвиденные последствия заблуждений ума» герой размышляет о планировании собственного бюджета и приходит к выводу: немец — лучший лакей.
«Вторая статья — лакей Готлиб. Готлиб, яко немец, получал с едой четыреста восемьдесят рублей в год, а с праздничными выходило даже несколько более пятисот рублей. Расход этот оказывался несомненно непосильным. Ежели на место Готлиба нанять Ивана или Прохора, то, конечно, это обойдется рублей на двести дешевле, но зато, во-первых, от Прохора наверное будет вонять, во-вторых, он непременно будет ходить в гости в барских брюках и сюртуках, в-третьих, станет постепенно пропивать господское белье, в-четвертых, из квартиры-игрушечки сделает свиной хлев. В результате окажется убыток, вдвое больший против того, чего стоит сам Прохор со всеми своими потрохами».