Уильям Крокодил, он же Стендаль
8 фактов о Стендале
235 лет назад в Гренобле родился Мари-Анри Бейль, прославившийся под именем Стендаля. «Горький» попросил рассказать о нем историка литературы Веру Мильчину.
Мари-Анри Бейль (1783–1842), вошедший в историю литературу под именем Стендаля, имел разные желания, и далеко не все из них сбылись. Он, например, с самого детства и едва ли не до конца жизни хотел писать для театра, сочинять комедии нравов, сделаться новым Мольером — но так и не сделался. Еще он мечтал быть любимым, причем любимым такой любовью, в которой духовная составляющая была бы не только не слабее, но даже, пожалуй, сильнее, чем физическая. Но и в этом не преуспел; влюблялся страстно, много раз, но далеко не всегда счастливо — и умер холостяком.
Но вот одно его желание исполнилось. Стендаль был убежден, что современникам он останется непонятен и что по заслугам его оценят только потомки: «Я рассматриваю и всегда рассматривал свои книги как лотерейные билеты. Для меня имеет значение лишь одно — быть переизданным в 1900 году». И действительно: современники вовсе не считали Стендаля гением, у них были другие кумиры; по-настоящему оценили автора «Красного и черного», пожалуй, лишь во второй половине XІX века, и с тех пор слава его только росла.
Наиболее известны два романа Стендаля: «Красное и черное», история чувствительного честолюбца, которую сам автор снабдил подзаголовком «Хроника XIX столетия», и «Пармская обитель» — еще одна история о честолюбии и страсти, но развивающаяся в совсем другой, не французской, а итальянской среде. Однако Стендаль писал в самых разных жанрах и о самых разных сюжетах; он автор книг о музыке («Жизнь Моцарта, Гайдна и Метастазио», «Жизнь Россини»), о живописи и архитектуре («История живописи в Италии», «Рим, Неаполь и Флоренция», «Прогулки по Риму»); в течение семи лет (1822–1829) он сочинял литературно-критические заметки для английских журналов — настоящую хронику тогдашней французской жизни (неслучайно некоторые их них имели общий заголовок «Очерки парижского общества, французской политики и литературы»), оставил автобиографические сочинения «Жизнь Анри Брюлара» и «Воспоминания эготиста», изданные лишь в конце XIX века.
А еще Стендаль много думал и писал о любви.
1. Любовь тела
В дневниках и в тех самых автобиографических сочинениях, которые были опубликованы лишь посмертно, Стендаль много и очень откровенно размышлял о, скажем так, взаимоотношениях полов. Вот два примера таких размышлений. В 18 лет он пишет в дневнике: «Мне, как и многим, непонятно, как овладеть впервые порядочной женщиной. Вот простейший способ. Она лежит; вы целуете ее, возбуждаете и проч.; она начинает входить во вкус. Однако по привычке продолжает защищаться. Тогда нужно незаметно положить ей левый локоть на шею, под подбородком, так, как будто вы хотите ее придушить; она инстинктивно поднесет руку к шее. Тут-то вы и пустите в ход руки [...] Если сохранять хладнокровие, средство это действует безотказно».
Десять лет спустя рассуждает с величайшим хладнокровием в том же дневнике: «Новизна — источник великих наслаждений; к ней и надлежит стремиться. Я был уверен, что вечером мне предстоит спать с хорошенькой Анжелиной, при виде которой я возбуждаюсь с большим трудом и только рисуя себе в воображении другую женщину. Мне попалась Пульхерия, и, хотя она во всех отношениях уступает Анжелине, ее вид привел меня в полнейшую готовность». А в 1840 году, за два года до смерти, он составляет контракт, который хотел бы заключить с Богом, и в его третьем пункте оговаривает некоторые формальные параметры своего мужского достоинства: «по жесткости и подвижности — как указательный палец, при любом желании. По форме — на два дюйма длиннее, той же толщины». Но Стендаль умел мыслить и писать об отношениях с женщинами и совсем в другом стиле.
2. Любовь души
В приведенном выше списке произведений Стендаля опущено одно — чрезвычайно важное для него, да и вообще носящее такое название, которое никого не может оставить равнодушным — «О любви». Книга эта вышла в 1822 году и успеха не имела. Стендаль в шутку уверял, что книгопродавец сбыл весь тираж капитану некоего судна, который погрузил книги на борт в качестве балласта. Так вот, о любви рассуждает в этой книге совсем другой Стендаль:
«Чем безумнее влюблен человек, тем большее усилие ему надо сделать над собой, чтобы осмелиться — рискуя рассердить женщину, которую он любит, — взять ее за руку».
«Даже суровость любимой женщины полна бесконечного очарования, которого мы не находим в самые счастливые для нас минуты в других женщинах».
«Величайшее счастье, какое только может дать любовь, — это первое рукопожатие любимой женщины».
«Физическое удовольствие, свойственное природе человека, знакомо всем, но нежные и страстные души отводят ему лишь второстепенное место. Однако если такие души кажутся смешными в салонах, если светские люди часто причиняют им страдания своими интригами, им зато даны радости, совершенно недоступные сердцам, которые сильно бьются только из-за тщеславия или из-за денег».
Другой Стендаль и другие наслаждения — не столько тела, сколько души.
3. Кристаллизация
Для этой другой — не физической или, во всяком случае, далеко не только физической — любви, Стендаль придумал даже специальный термин, о котором его великий современник Бальзак, один из немногих, кто оценил Стендаля при жизни, сказал, что, хотя «сейчас им пользуются, посмеиваясь, он будет жить благодаря своей глубокой точности». Этот термин — «кристаллизация». Стендаль поясняет его так: «В соляных копях Зальцбурга в заброшенные глубины этих копей кидают ветку дерева, оголившуюся за зиму; два или три месяца спустя ее извлекают оттуда, покрытую блестящими кристаллами [...] прежнюю ветку невозможно узнать. То, что я называю кристаллизацией, есть особая деятельность ума, который из всего, с чем он сталкивается, извлекает открытие, что любимый предмет обладает новыми совершенствами».
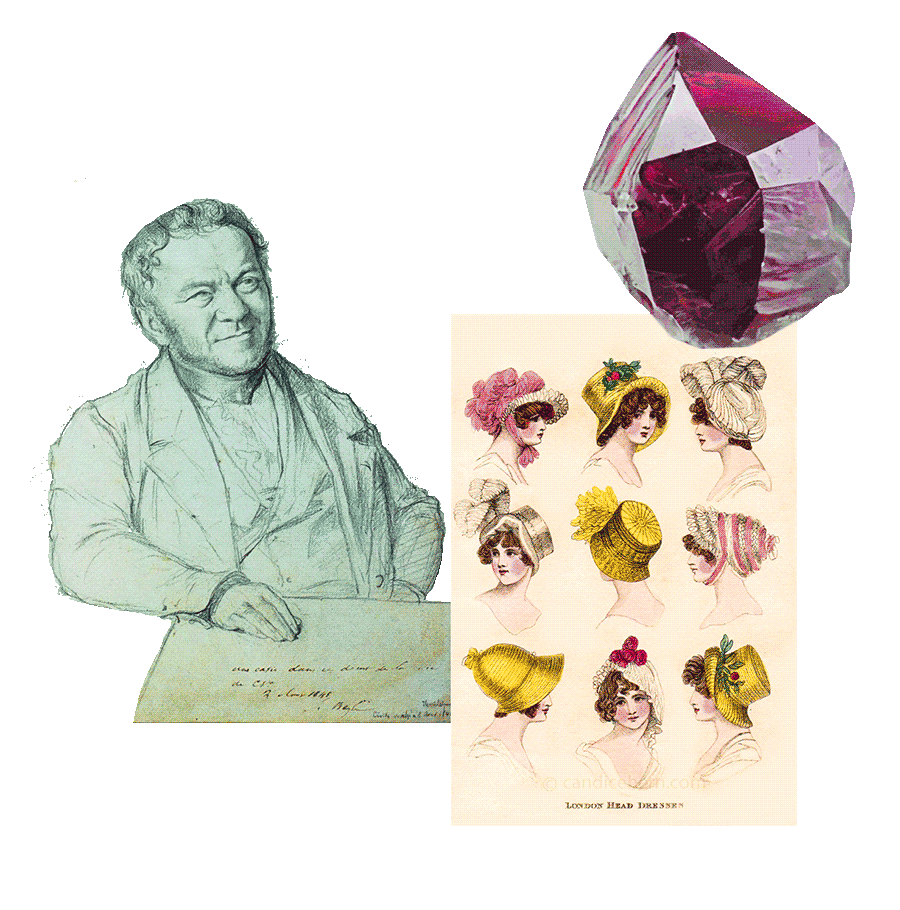
В другом месте Стендаль поясняет, что слово «кристаллизация» он употребляет «для обозначения акта безумия, открывающего нам все красоты и все виды совершенства в женщине, которую мы начинаем любить», а также что под ним он разумеет «некую лихорадку воображения, благодаря которой женщина, большей частью заурядная, становится неузнаваемой и превращается в исключительное существо». В этом и заключается «открытие» Стендаля: в любви не бывает объективности, она состоит из преувеличений, сомнений, фантазий, грез. Об этом, конечно, подозревали и до Стендаля, но он приискал для явления эффектное определение, нашел слово.
4. «Патриотизм передней»
Француз Стендаль очень не любил французов. Его тревожила неспособность современников любить: «На свете есть вещь, которую француз чтит выше, нежели свою любовницу, именно свое тщеславие». Кристаллизация у Стендаля, если воспользоваться его собственным термином, свершается у него по отношению к Италии. Итальянцев и итальянок он наделяет всеми любезными его сердцу качествами — теми, которых он не признает за французами. Если у французов и англичан, утверждает Стендаль в «Жизни Анри Брюлара», «всякая личная оригинальность подавлена желанием строго согласовать свои манеры с условным идеалом изящества и хорошего тона», то итальянец «повинуется только влечениям собственного сердца и всю силу своего характера употребляет на то, чтобы придать отличающим его особенностям еще большую энергию».
Впрочем, национального самолюбования Стендаль не любил не только у французов, но и вообще у любого народа. В предисловии к первому изданию книги «О любви» он сочувственно цитирует книгу Луи Симона «Путешествие в Швейцарию» (1822): «Когда мы видим выражения в таком, например, роде: истинно испанская преданность, истинно английские добродетели, повторяемые совершенно серьезно в речах иностранных патриотов, — справедливо было бы не слишком доверять чувству, которое и другой стороне диктует нечто подобное. В Константинополе и у других варварских народов это слепое и исключительное пристрастие к своей стране претворяется в ярость, жаждущую крови; у народов образованных это — тщеславие, болезненное, злополучное, беспокойное, встающее на дыбы при малейшем прикосновении». Стендаль обожал язвительную реплику, которой французский экономист Тюрго в XVIII веке заклеймил людей, лебезящих перед соотечественниками, — «патриотизм передней» (в России в XIX веке такой патриотизм называли «квасным»).
5. Псевдонимы
С прохладным отношением к отечеству и соотечественникам связана такая своеобразная черта Стендаля, как его пристрастие к псевдонимам. Швейцарский ученый Жан Старобинский, посвятивший этому явлению специальную статью, констатирует: «Всякий раз, когда он покидает пределы Франции, Стендаля охватывает чувство, будто бы он обретает свой подлинный мир. Ему нравится жить вне своей страны, так же как ему нравится жить вне своего имени».
Псевдонимами Бейль/Стендаль пользовался не только в публикациях, но даже в частных письмах; по подсчетам исследователей, их число дошло до сотни; некоторые он употреблял однократно, к другим возвращался по несколько раз, а с одним — Стендаль, — впервые использованным в 1817 году в книге «Рим, Неаполь и Флоренция», он в результате и вошел в историю литературы. Заметим, что этот окончательный псевдоним восходит к названию прусского городка Штендаль и, следовательно, носит откровенно нефранцузский характер (впрочем, произносили его во Франции все равно на французский манер).
Некоторые из псевдонимов Бейля звучат откровенно комически: например, Уильям Крокодил или Жюль Пардессю (то есть в переводе — Жюль Пальто). Другие для современного слуха нейтральны, но французы-современники воспринимали их как откровенно мещанские — и потому смешные. Известен эпизод, когда в салон писательницы Виржини Ансело, где его не знал никто, кроме хозяйки, Бейль явился, назвавшись «Сезаром Бомбе, трикотажником», и принялся произносить язвительные монологи об искусстве, которые имели бешеный успех, ибо никто не ожидал подобного фейерверка остроумных мыслей от некрасивого и якобы невежественного коренастого трикотажника. Конечно, у этой страсти к псевдонимам были и другие психологические причины, но «непатриотическое» издевательство над соотечественниками играло здесь не последнюю роль.
6. Стендаль и Россия
В качестве интенданта Стендаль побывал в России вместе с наполеоновской армией в 1812 году и даже стал свидетелем московского пожара, но обрывочное описание этого события сохранилось только в его частном письме из Москвы. Однако в его творчестве есть другие, гораздо более оригинальные «русские следы». Один из них содержится во фрагменте из автобиографической «Жизни Анри Брюлара» (Анри Брюлар — еще один псевдоним Анри Бейля):
«Я должен был выслушивать постоянные проповеди о родительской любви и обязанностях детей. Однажды, наскучив речами отца, я сказал ему: „Если ты так меня любишь, выдавай мне пять су в день и предоставь мне жить так, как я захочу. Впрочем, будь уверен, что, как только вырасту, я поступлю в солдаты”. Отец бросился ко мне, как будто хотел меня убить; он был вне себя. „Ты гнусный нечестивец”, — сказал он мне. Не похоже ли это на императора Николая и муниципалитет Варшавы, о которых столько говорят сегодня, когда я это пишу (7 декабря 1835 года, Чивитавеккья)? Поистине, все тирании похожи одна на другую».
Эпизод, который Стендаль имеет в виду, — это так называемая «варшавская речь», которую император Николай I произнес перед членами варшавского муниципалитета 4/16 октября 1835 года и которая, очень скоро став известной европейской публике, произвела на нее гнетущее впечатление, ибо в ней российский император грозил полякам, своим подданным, что, если они вновь, как в 1830–1831 году, вздумают бунтовать против России, он прикажет сравнять Варшаву с землей — и не он будет ее восстанавливать. Николай, по свидетельствам иностранных дипломатов, сам после жалел об этой вспышке гнева и «с трепетом» ожидал прибытия английских газет, которые в самом деле, познакомившись с этой речью, заподозрили его в умопомешательстве. Много писали об этой речи и французские газеты, и здесь Россия входит в дневниковую, по сути, запись Стендаля очень органично; это непридуманный кусок европейской политической реальности 1835 года.
Но порой Стендаль поминал Россию, что называется, всуе. Например, в романе «Арманс» (1827) заглавная героиня носит фамилию Зоилова; она представлена как дочь француженки и русского генерала, родившаяся в России и попавшая во Францию уже взрослой девушкой. Так вот, вся эта русская предыстория нужна лишь для одного — чтобы подчеркнуть чуждость мадемуазель Зоиловой фальшивому французскому свету. Кроме этого, ничего русского в героине нет, о красоте же ее говорится вдобавок, что она не только русская, но и «черкесская»: с французской точки зрения одно не отличается от другого.
7. Еще один русский след
В романе «Красное и черное» выведен русский князь Коразов. Убедившись, что главный герой, Жюльен Сорель, чем-то подавлен, Коразов говорит ему: «Это уже просто дурной тон; вы что, разорились, потеряли все состояние или, может быть, влюбились в какую-нибудь актрису?» И далее Стендаль добавляет собственный комментарий: «Русские старательно копируют французские нравы, только отставая лет на пятьдесят. Сейчас они подражают веку Людовика XV».

Этот «русский» эпизод заметил Пушкин, закончивший читать второй том «Красного и черного» в начале июня 1831 года, и дал к нему свой полемический комментарий. Он немедленно использовал этот фрагмент в повести «Рославлев», над которой работал в то же самое время: «Все говорили о близкой войне и, сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством».
Сказано ровно то же самое, что у Стендаля: русские подражают французам времен Людовика XV, но Пушкин вносит в стендалевский диагноз важную поправку. Ведь действие «Рославлева» происходит в 1812 году, а действие «Красного и черного» — в 1830-м (сам автор, правда, отнес его к 1827 году, но в тексте есть упоминания событий, состоявшихся в начале 1830 года, например, премьеры драмы Виктора Гюго «Эрнани»). А к 1830 году образцы для подражания у русских сменились. Этот анахронизм хорошо почувствовал Набоков, в своем «Комментарии» к «Онегину» упрекнувший Стендаля в том, что его русские 1830 года на самом деле «принадлежат к литературному типу путешествующего московита XVIII столетия». Одним словом, русские и здесь, как в случае с «Арманс», помянуты не вполне к месту, так сказать, «по слухам».
8. Еще раз об «Арманс», об эготизме и о фиаско
Одна из книг Стендаля, опубликованных посмертно, называется «Записки эготиста». Эготист (слово, заимствованное французами у англичан) — это, в отличие от эгоиста, не тот кто любит себя, а тот, кто любит думать и говорить о себе. Стендаль назвался эготистом и был абсолютно прав: он в самом деле рассказывал о себе (не современникам, а потомкам) самые интимные вещи. Его, например, очень волновала тема «платонизма поневоле», бессилия, постигающего влюбленного в самом разгаре его страсти. В приложении к книге «О любви», тоже опубликованном уже после смерти автора, в 1853 году, есть глава под названием «О фиаско»:
«Если вы хоть в какой-либо мере питаете к женщине страсть и ваше воображение не истощено, то стоит ей однажды вечером неосторожно сказать вам с нежным и смущенным видом: „Приходите завтра в полдень, я велю никого не принимать”, — и нервное возбуждение помешает вам спать целую ночь: на тысячу разных ладов станете вы рисовать себе счастье, вас ожидающее; утро для вас — настоящая пытка; наконец, часы бьют, и кажется, что каждый их удар отдается у вас под ложечкой. Весь трепеща, вы направляетесь на ее улицу; у вас нет сил сделать хотя бы один шаг. Вы видите за шторами женщину, которую любите, вы поднимаетесь по лестнице, стараясь приободриться, — и вас постигает фиаско, вызванное работой воображения».
Героем романа «Арманс» Стендаль сделал именно героя, платонического поневоле. Однако сказать прямо о его состоянии не решился. В результате герой на протяжении всего романа страдает, хотя он любит и любим, а в чем причина его страданий и отчего юноша, вместо того чтобы наслаждаться счастьем с обожаемой Арманс, принимает яд, автор не объясняет. Причина была бы яснее, если бы Стендаль дал герою другое имя, которое выбрал вначале, — Оливье. Об этом имени он 23 декабря 1826 года писал Просперу Мериме, что оно «само по себе красноречиво, но красноречиво без неприличия», а если бы героя звали Эдмоном или Полем, то многие люди не догадались бы о его изъяне. Дело в том, что в это время парижская публика обсуждала два романа с одинаковым «платоническим» героем и с одинаковым названием «Оливье» — один, неопубликованный, принадлежал великосветской даме, герцогине де Дюрас, другой, опубликованный, — литератору Анри де Латушу, причем мистификатор Латуш своего имени на книге не указал, а наоборот, обставил дело так, как будто роман написан герцогиней. Стендаль хотел продолжить этот ряд и выпустить третьего «Оливье», однако по совету Мериме от этого первоначального намерения отказался и дал герою имя Октав де Маливер, а всему роману — название «Арманс», по имени героини. На фоне этой не вполне естественной конструкции — плода соревнования с герцогиней и мистификатором — особенно очевидны достоинства «эготических» зарисовок Стендаля и его наблюдений над собственной психологией. В этом он точно опередил свое время.