«У меня нет убеждений, у меня есть нервы»
Интервью с Виктором Ремизовым, автором «Вечной мерзлоты»
— По крайней мере в двух ваших книгах Сибирь — не просто место действия, а полноценный персонаж. Как получилось, что вы, выходец из центральной России, вдруг заболели Сибирью?
— Я родом из Саратова. Это значит, на одном, степном, берегу Волги — город, а на другом берегу — лес. Мой отец родился в лесной зоне Саратовской области, прекрасно знал лес и меня с малолетства таскал повсюду: мы с ним на Волгу ездили, куда-то за грибами ходили. Видимо, так у меня и возникла крепкая детская любовь к природе, потому что впервые я один уехал на рыбалку на Волгу в 13 лет. Сейчас трудно представить себе, что человек один куда-то поехал, там заночевал. Тогда же времена еще были довольно романтические. Тогда и Бродский, и Тарковский ездили в экспедиции, а они были совершенно городские люди.
Я поступил в Саратовский геологоразведочный техникум, закончил его, потом работал в экспедиции. Когда я впервые приехал в экспедицию, был дико расстроен: я еду на поезде по Транссибу, по степным просторам, и пишу в дневнике — «единственное, что тут встречается из деревьев, — это столбы». В конце концов я попал в совершенно замечательные места, отработал прекрасный сезон, болтался по тайге. Я был геодезистом и работал до часу дня, потому что потом начиналась жара, рефракция, отчеты брать уже невозможно. Потом шел обрабатывать свои измерения, а часов с трех и до вечера уходил в тайгу, причем далеко, один. Даже странно, что ни разу не заблудился. Местность была такая: протекала Ангара, а от нее шли холмы. Мы работали в зоне затопления Богучанской ГЭС и по Енисею заходили туда на маленьком теплоходике. Это, условно, самая середина Ангары, совершенно кержацкие места, там до сих пор сохранились кержацкие дома.
— Фактически вы были в местах действия романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза»?
— Да, в тех краях я работал, постоянно бродил по тайге, добывал рябчиков, и это только поддержало мою любовь ко всему этому. А потом я отслужил в армии, в Оренбургской области, в голых степях. Поступил по инерции в Московский институт геодезии и картографии, но первые два года программа техникума и института практически совпадали, потому что таких заведений в стране только и было, что два техникума и два института — новосибирский и московский. Сдал экзамены очень хорошо, и мне разрешили свободное посещение. Я только на английский и ходил, понятно, что учиться мне было неинтересно. И я пошел в литературную студию при Бауманском институте — я тогда какие-то там стишки пописывал. И руководительница этой студии мне плешь проела: что вы, мол, дурака валяете?
— Она вас агитировала в Литинститут поступать?
— Нет, на филфак. И я бросил свой институт, поступил на филфак и закончил его. А страсть-то осталась. У меня две несовместимые страсти в душе: с одной стороны, я люблю искусство, а с другой — природу. Я их все время стараюсь как-то совмещать. Мне в армии снился назойливый сон: будто я работаю лесником в удаленных местах, а на стенке в зимовье у меня висит скрипка, то есть несовместные вещи. Так эти две страсти все время и жили. Собственно, первые мои рассказы как раз касались природных вещей.
— Вы их написали в институте?
— Нет, уже после института. Жена беременная, ходит с огромным пузом, я не могу поехать на сплав, поэтому вытащил на балкон письменный стол и думаю, «а что было 10 лет назад?». «Наверное, вот что» — и написал.
— После института вы еще работали в школе?
— Да, два года преподавал в 31-й школе, которая за МХАТом. Это были 1986—1987 годы. Старшие классы я не вел, у меня были 4–6-е классы. Куча моих учеников стали знамениты.
 Кержаки (этнографическая группа русских старообрядцев) в Маньчжурии, 1930-е.
Кержаки (этнографическая группа русских старообрядцев) в Маньчжурии, 1930-е.
Фото: humus.livejournal.com
— Вы ведь уже не из того поколения, которое питало страсть к походам и КСП, которое уходило в тайгу за иллюзией свободы. Вам было это важно — уйти от всевидящего глаза?
— Нет, я был совершенно советский парнишка, полностью встроенный в систему. В тайге, конечно, есть первозданная свобода, и там я попал как раз к таким людям, про которых вы говорите: наши инженеры, геофизики и геодезисты со страшной силой спорили по поводу политики. Причем очень открыто спорили, но они тоже были советские люди, потому что сам путь социалистического строительства они не обсуждали, они обсуждали, что на этом пути мы делаем не так. Помню, они обсуждали XXVI съезд партии, какие-то стенограммы, сидели и думали по этому поводу. Поэтому никакого диссидентства я не касался.
— Вам не страшно было одному в тайге?
— Я никогда не воспринимал тайгу как какое-то опасное место. Я и в последние годы по ней в одиночестве болтаюсь и за свое здоровье совершенно не боюсь — в конце концов, у меня есть спутниковый телефон, но я даже никогда не думал о том, чтобы позвать на помощь. Когда я впервые поехал один, то всю первую ночь толком не спал, потому что мне снилось, будто мишка вокруг ходит. Это, кстати, вполне реальная ситуация. На Дальнем Востоке ты утром просыпаешься, а он идет себе по берегу, дошел до лагеря, обошел кругом, потоптался и пошел дальше. Про медведя точно можно сказать только одно — что он непредсказуем, поэтому он единственный, кого я опасался. Но и это опасение напоминало о себе первые два дня.
— А людей, которые, как известно, пострашнее будут, не боялись?
— Я какой-то оголтелый в этом смысле, я не боюсь людей. Может, когда-то боялся, по первости. Помню, мы с другом решили проплыть весь Енисей, от, условно, Енисейска до Дудинки. Кто-то из моих товарищей говорит: там же зона, возьми оружие. Я говорю: и что, стрелять? На самом деле это полная фигня, потому что я не знаю, зачем я нужен каким-то сбежавшим зекам, к тому же все наши встречи на реке были отличные, люди нам всегда помогали.
— Вы встречались с рыбаками?
— Бывало и с рыбаками, например осетра купить. У меня хорошая лодка красного цвета, подъезжаем, мужик там сети трясет, мы кругом к нему аккуратно подъезжаем, а он расцветку лодки смотрит.
— Мог бы и пальнуть.
— Нет, конечно. Зачем ему это? Мы к нему подъезжаем, говорим: «Батя, не продашь осетришку на уху?». Он: «А вы кто такие?» Я говорю, мол, из Москвы, прошу небольшого, килограммов на 5–7. Он говорит, только что такого выбросил, нас испугался. Мы говорим, жалко. А он говорит, нечего жалеть, постойте, мол, сейчас сетку тряхну, — и достал килограммов на 15. Ну куда нам такого огромного! Рыба красная тогда стоила 150 рублей за килограмм. У меня сейчас рассказ выйдет в журнале «Юность», называется «Браконьер», в нем я примерно описываю, как мы тогда путешествовали вдвоем. Там молодые парни подъезжают на лодке, и мы немного напряглись — середина Енисея, мы в надувной лодке. А оказались совершенно замечательные пацаны.
Или плывем, и вдруг смотрю — сеть стоит на реке, причем далеко от жилья. Там такой мыс, на мысу костер дымится, даже, кажется, какие-то шмотки разбросаны. Ну, мы причалили — ясно, что мужики убежали. Я им свищу, говорю: парни, не бздите. И выходят два мужика местных: я там всех знаю, и директор заповедника — мой друг хороший. Эти мужики на лошадях заехали с Киренги на Лену, рыбачат, конечно же, браконьерят. Они говорят, мол, не знаем откуда сеть, кто поставил. Мы говорим: перестаньте, мы вас не видели. У мужиков там в кустах еще изюбрь точно лежал, и, в общем, это ситуация опасная, но так чтобы тебя завалили — все же люди не звери какие. Я потом только что-то такое подумал. А тогда я попросил у них рыбы, которая ловится только в сети, и мы дальше поехали. А так я никогда никого особо опасного не встречал. Вообще считается, что Россия — это такая пустыня. Ничего подобного. Плывешь по речке на Дальнем Востоке, залетел туда на вертолете, а там сидят два мужика у костерка, курят.
 Виды тайги. Тайга по берегам Кемчуга.
Виды тайги. Тайга по берегам Кемчуга.
Фото: humus.livejournal.com
— Какие места вам больше нравятся? Сибирь или еще, например, горы?
— Я люблю Сибирь, но и горы тоже, например я очень много охотился на Алтае, там еще конные маршруты были. Но вообще чем суровее природа, тем больше мне это нравится. Мои любимые места — это Охотский район Хабаровского края. Там горы высокие. Я сейчас сел за XVII век, прочитал Соловьева, прочитал Костомарова, еще кучу всяких научных книжек по быту и прочее. В какой-то момент я вдруг понял, что я собираюсь написать книгу, в которой главные герои будут звери, разбойники чистой воды. Страшно же интересно.
— Что для вас путешествия по Сибири — преодоление себя или противодействие природе?
— Противодействовать природе довольно глупо, и потом противодействия не возникает, потому что природа очень честный противник, если именно так ее воспринимать. Она никогда не ведет себя подло. Если ты идиот, то, конечно, можешь попасть в ситуацию.
Вот помню, плыл я один по Лене. А я обычно поздно плыву, в самом конце сентября, когда самая восхитительная природа, потому что если ветра сильного не было, то все деревья еще желтые стоят, и солнце просто подарок. Но, бывает, снежок идет. Я специально иду на такие вещи — вроде преодоления, что-ли. Мои дружки говорят, что Ремизову чем хуже, тем лучше. Так вот, помню, я грохнулся здорово — поскользнулся на ледяном камне и должен был шарахнуться башкой, но извернулся и ударился рукой очень сильно, и рука начала на глазах пухнуть. Я ее сразу в ледяную воду сунул, еще что-то сделал, и вот тут на меня отчаяние накатило, что я ее сломал. Но не сломал. А так, ну, бывает, что упадешь в воду, что такого.
— «Воля вольная» — первая ваша книжка, которая прозвучала?
— Совсем первой была «Кетанда», сборник рассказов. Они неплохие, довольно мило бывает их перечитать, но в них, конечно, чувствуется ученичество. Так что «Воля вольная» первая, пусть и появилась довольно случайно.
— История, которая в ней рассказана, она ведь не сибирская, а вообще такая русская. Получается, вы искусственно помещаете ее в Сибирь?
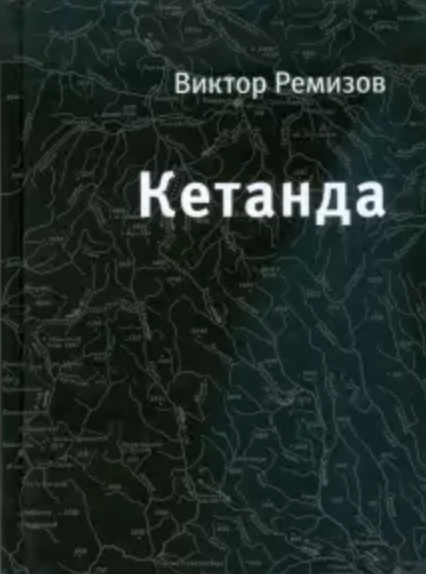
— Да, конечно. Просто у меня те края любимые, а так это притча по большому счету. После того как я ее уже закончил и рукопись была готова, я подумал, что никогда прежде не бывал зимой на соболином промысле. То есть зимой бывал, но не на самом промысле, нехорошо. И я позвонил мужикам и сказал, что хочу приехать на промысел. Приехал, мне дали снегоход, показали все, и я неделю один промышлял. Я ставил капканы, но не на соболей, а на кабаргу и на волка — кабарга попалась, но ушла с капкана. У меня не было особой цели, мне просто надо было побыть одному в тайге, когда мороз минус 47, когда утром заводишь «Буран», а при этом солнце звенит, снега сумасшедшие — кайф! Я там сидел, писал что-то. Но еще когда я только приехал, я мужикам — там были два охотника и мой друг — оставил рукопись «Воли вольной». И вот когда через неделю я вернулся, они уже прочли, мы сели, выпили, и друг мне говорит: «А чего ты этих ментов жалеешь? Да они падлы». И тут на меня посыпалось. Мол, менты ночью едут, лучат косулю, потом видят, что кто-то там рядом едет, подъезжают, у тех в машине косули лежат, менты отбирают оружие у этих мужиков. То есть, получается, им можно, а этим нельзя. Я когда приехал, ужесточил эту линию, потому что у меня она мягче была сделана.
— Это же классическая русская история, вам кажется, надо ее вновь и вновь повторять? Чтобы в ней что-то изменилось или чтобы мы поняли парадокс этой жизни — что по большому счету все люди хорошие?
— Когда я пишу, я ни о чем таком не думаю. Хотя, конечно, это удается не всегда. Один из недостатков «Вечной мерзлоты» — в том, что я увидел перед собой некоторую просветительскую цель. Там была сложная задача. С одной стороны, я прекрасно понимал, что все, о чем я пишу, известно, в «Мерзлоте» ничего нового нет. Всем, кто читал Шаламова, Гинзбург, Солженицына, это понятно. С другой стороны, я понимал, что современная молодежь про это ничего не знает.
— По поводу «Мерзлоты» — я понял, что меня в вашей книге не отпускает. Вы фокусируете внимание читателя на простой, в общем-то, мысли: от ГУЛАГа страдали не только те, кто сидел, или те, кто их охранял, и не только те, у кого кто-то из родственников сидел или охранял, а абсолютно все! Об этом не пишут нынешние авторы, хотя ГУЛАГ сейчас стал чуть ли не модной темой, но об этом не писали те же Гинзбург, Солженицын или Шаламов.
— У них была другая тема — описание ужасов ГУЛАГа, они должны были рассказать, как там чудовищно, в каких условиях находились люди. Собственно, вся эта мемуарная литература — просто колоссальная, она больше даже, чем военная. У меня же была совсем другая тема: показать не ужасы ГУЛАГа, в смысле не ужасы лагерного существования, а условия существования человека того времени вообще. В моем понимании вся страна была ГУЛАГом, в ней не было места, где можно было быть от этого свободным. Но вот ты работаешь на предприятии, а там сидит особист, и так далее.
— У вас получается, что Трансполярная магистраль, вокруг прокладки которой строится сюжет «Вечной мерзлоты», абсолютно бесполезна. Создана по безумной воле тирана.
— Да, она была не нужна, потому что возить по ней было нечего, у нее даже проекта не было. В тех условиях без проекта строить было бессмысленно. Если бы ее все-таки построили, как и планировалось, то и сейчас по ней нечего было бы возить. Руду из Норильска круглогодично возят гигантские лихтеровозы финской постройки, у них стальные винты, и все прекрасно, больше ничего не надо. Бывают люди, которые говорят, что все же трасса нужна, что Сталин был провидцем и так далее. Я уже не говорю о том, сколько бы она денег сожрала, если бы ее построили и поддерживали, — это гигантские деньги. Я говорю этим людям: «Давайте я вам поставлю состав из чего хотите — цистерн, вагонов, — загрузите их мне в Норильске, и повезем». Нечего там грузить, там все только пустеет. Игарка сегодня пустая. Ну, в Дудинке порт худо-бедно работает. Сталин говорил: будем строить дорогу. Куда? На мыс Каменный. Где Игарка, а где мыс Каменный? Проекта никакого нет, начали строить дорогу на мыс Каменный — это устье Оби. И потом кепку мяли два года, пирс ряжевый построили — это когда в форме колодца из дерева выкладываются венцы и бутятся камнями. И вот так пять километров из лиственницы, которой там нет, и дорог нет, пятикилометровая ряжь в ледяной морской воде. А потом ему доложили, что там крупнотоннажные суда не пройдут и углубить невозможно — там пески, которые замоют любое углубление. И по щелчку дорога переориентируется на Игарку. Ну какой тут великий замысел?
 Строительство Трансполярной магистрали
Строительство Трансполярной магистрали
— А когда Сталин принимал решение, у него были какие-то обоснования? Понятно, что ГУЛАГу это было очень интересно, потому что это большая стройка, открытые ресурсы, — сколько хочешь, столько и бери. Но какая мотивация была у Сталина?
— Я убил море времени, пытаясь найти на эту тему хоть что-то. Ни в каких постановлениях экономически это не мотивируется, вообще нигде. Какие-то люди пытаются доказать, что, поскольку начиналось это все в 1947-м, когда отношения с американцами вроде были еще неплохие, он якобы хотел засандалить дорогу до Чукотки, чтобы была прямая дорога в Америку. Но он такого никогда не говорил. Якобы на этом знаменитом совещании шла речь, что страна должна быть защищена с севера, поэтому там будет стоять военно-морской флот. Афанасьев и попался на этом, потому что сказал, что флот будет 10 месяцев в году стоять вмороженным в лед. То есть никаких мотиваций нет. Я в «Мерзлоте» осмелился свое соображение высказать, что он таким образом попытался поставить себе памятник, потому что, мол, до него проложили Транссиб, а он проложит вот здесь. Сила дармовая есть, вон сколько всего построили, и здесь построят. Блажь! Но блажь в стране, в которой нечего было носить, негде было жить и нечего было есть, потому что в 1947 году был голод. Совершенно чудовищная история — в то время вваливать такое количество денег в бессмысленную затею.
— А есть какие-то цифры?
— Я их привел в романе. Дело в том, что в литературе мелькают разные цифры в разных ценах разных годов, я просто запутался в них. Но я примерно вычислил в «Мерзлоте», что за эти деньги можно было построить второй Красноярск с полноценным современным жильем на 350 тыс. населения. Но эти деньги были просто закопаны.
— Говорят, там хорошо кормили, в отличие от Колымы.
— Да, там погибло не так много людей. С Колымой вообще сравнивать не стоит, потому что это принципиально разные вещи. На Колыме все специально было устроено так, чтобы оттуда никто не вернулся, а здесь этого не было. Здесь к людям, которых сажали, которых забирали просто ни за что — за опоздания на работу, небольшое воровство госимущества, — уже по-другому относились. Им давали сроки, чтобы они не умирали, а бесплатно работали. Завести туда народ можно было только по Енисею в июне, и если люди вдруг начинают помирать или еще что-то, то у тебя не хватает рабочих, ты план не выполнишь и по голове получишь как следует. Поэтому там народ особо никто не гнобил. Но цифры, которые есть в отчетах НКВД, тоже лукавые. Я разговаривал со спецами из музея ГУЛАГа, тогда было много способов понизить смертность в отчетах. Например, когда несколько человек доходят, их отправляют на пересылку, то есть они уже не в лагере, а числятся по другим ведомствам.
— Почему вы рассказываете в основном о той ветке, которая идет от Ермакова, совсем заброшенной, а не о той, которая идет от Лабытнанги?
— Первоначально у меня был замысел написать про репрессированного капитана енисейского судна. Потом, когда я начал ковырять это дело, с капитанами разговаривал и прочее, естественно, сразу встал вопрос с дорогой, потому что там ее постройка была центральным событием. И у меня капитан Казаченко, о котором я пишу в конце, работал на буксире, и я его судьбу взял в качестве пролога. У меня же почти весь роман написан с точки зрения конкретных людей, а не всевидящего автора, который возникает только иногда и говорит о каких-то исторических моментах. Насколько люди могли перемещаться, сколько могли видеть, столько и показано. Так как Ермаков у меня был одним из центров, вокруг которого все вращалось, то, соответственно, насколько люди могли от него продвинуться, сколько построили, столько я и описывал. У меня не было задачи подробно описывать все эти зверства, у меня и лагеря в романе не очень много.
— Чем ваша книга отличается от других книг о ГУЛАГе, которые сейчас выходят? Тем, что, как вы говорили, она преследует просветительскую цель?
 — Тем, что она моя. Я ее не воспринимаю как просветительскую, потому что, слава богу, она написана по-другому — как мне кажется, довольно правильно. Просветительская цель, о которой я говорю, мне мешала, я понимал, что без нее нельзя, но ее присутствие далеко не всегда шло на пользу. Вот я сижу и думаю: а было еще вот такое совершенно типическое явление, про которое знающим людям давно известно, а незнающим — нет, поэтому его надо как-то пластически вписать в повествование. И это был, в общем, минус для книжки. А отличается она как раз тем, что она моя, потому что в ней выражено мое видение, мое представление о том времени. Задачей своей отличается, потому что задача у меня была особенная. Когда я уже накопил материал, то понял, что лезу на площадку, на которой все уже более или менее известно. Что я могу нового здесь сказать? Куда мне тягаться с той же Гинзбург? И вдруг в какой-то момент меня кольнуло, что я могу попробовать прожить жизнь тех людей честно и подробно — так, как они и жили. Одно дело, когда ты знаешь, что у какого-то человека что-то случилось, и другое, когда потом ты с этим человеком встречаешься, и он тебе начинает рассказывать подробности, и у тебя сердце кровью обливается. Мы так же относимся к информации: мы ее воспринимаем и принимаем к сведению, и все. Но в тот период вся страна оказалась в этом ужасе, и даже те, кто говорил, что ни о чем не слышали, они все равно боялись жить в этом, ощущали это. Поэтому моя книга отличается тем, что это честная попытка собственными нервами прожить то время. Кто-то неглупый сказал: у меня нет убеждений, у меня есть нервы. Вот и эта книга написана так же, без убеждений, но с попыткой войти в горе, счастье и радость тех людей, в ту жизнь.
— Тем, что она моя. Я ее не воспринимаю как просветительскую, потому что, слава богу, она написана по-другому — как мне кажется, довольно правильно. Просветительская цель, о которой я говорю, мне мешала, я понимал, что без нее нельзя, но ее присутствие далеко не всегда шло на пользу. Вот я сижу и думаю: а было еще вот такое совершенно типическое явление, про которое знающим людям давно известно, а незнающим — нет, поэтому его надо как-то пластически вписать в повествование. И это был, в общем, минус для книжки. А отличается она как раз тем, что она моя, потому что в ней выражено мое видение, мое представление о том времени. Задачей своей отличается, потому что задача у меня была особенная. Когда я уже накопил материал, то понял, что лезу на площадку, на которой все уже более или менее известно. Что я могу нового здесь сказать? Куда мне тягаться с той же Гинзбург? И вдруг в какой-то момент меня кольнуло, что я могу попробовать прожить жизнь тех людей честно и подробно — так, как они и жили. Одно дело, когда ты знаешь, что у какого-то человека что-то случилось, и другое, когда потом ты с этим человеком встречаешься, и он тебе начинает рассказывать подробности, и у тебя сердце кровью обливается. Мы так же относимся к информации: мы ее воспринимаем и принимаем к сведению, и все. Но в тот период вся страна оказалась в этом ужасе, и даже те, кто говорил, что ни о чем не слышали, они все равно боялись жить в этом, ощущали это. Поэтому моя книга отличается тем, что это честная попытка собственными нервами прожить то время. Кто-то неглупый сказал: у меня нет убеждений, у меня есть нервы. Вот и эта книга написана так же, без убеждений, но с попыткой войти в горе, счастье и радость тех людей, в ту жизнь.