«У каждого во рту нога его соседа»
Татьяна Никольская о жизни и творчестве Константина Вагинова
«Правомерным обэриутом я Вагинова не считаю»
Константина Вагинова часто относят к ОБЭРИУ, потому что формально он входил в Объединение реального искусства, подпись поэта есть в их декларации, что не мешало Вагинову участвовать в таких группах, как «Островитяне», «Абраксас» (правда, это было раньше, чем ОБЭРИУ). В 1930-е годы группам вообще стало трудно существовать, потому что появился Союз советских писателей, и все объединения распустили.
В романе «Труды и дни Свистонова» Вагинов с иронией и даже сарказмом описал вечер ОБЭРИУ, в котором сам участвовал — но это как раз ни о чем не свидетельствует, потому что тому же Хармсу была свойственна самоирония. Совсем не обязательно, если он как-то иронично отозвался — то обязательно был против. Конечно, таким обэриутом, как Хармс или Введенский, Вагинов не был, но какие-то черты его с ними сближали. Я бы сопоставила последний роман Вагинова «Гарпагониана», где изображены этакие монстры, коллекционирующие человеческие ногти или ворующие друг у друга тетрадку со сновидениями, с рассказами Хармса, со «Случаями», где действительно полный макабр, основанный на сгущенной реальной действительности. Причем из этого абсолютно не следует, что Вагинов повлиял на Хармса или наоборот, то есть какое-то влияние, возможно, было, но и тот и другой исходили из имеющегося материала. Интерес к чудакам сближает Хармса и Вагинова. А если мы возьмем, скажем, лирический трагизм Введенского… «Элегия» — это, конечно, позднее произведение, но «на смерть! На смерть! держи равненье / певец и всадник бедный» — это, мне кажется, созвучно вагиновской лирике, его стихам. И раннего периода, где кризис культуры, все уходит, и последнего, когда он физически был очень болен, и то, что он видел, было абсолютно далеко от детских идеалов: «Он не был пьян, он не был болен — Он просто встретил сам себя / У фабрики, где колокольня / В обсерваторию превращена». Вагинову обэриуты были интересны как люди, сами по себе, поэтому правомерным обэриутом я его не считаю, но он и в других кружках занимал положение стороннего наблюдателя. Он был, но его как бы и не было.
«Даже сосед, обычный пролетарий, любил Вагинова, из хорошего отношения провел к нему электричество»
В каком-то смысле это уникальный случай, потому что Вагинов — человек, которого все любили… Мне повезло: когда я начала заниматься Вагиновым, были живы люди, знавшие его — Ида Моисеевна Наппельбаум, например, в Москве я бывала у Николая Корнеевича Чуковского, который написал замечательные воспоминания о том времени. В общем, мне ни один человек не сказал ничего негативного, не сказал, что он по-человечески чем-то раздражал или что-то в этом роде. Все говорили, что Костя был тихий, уютный. В прозе злословия было много, а в жизни — нет. Если мы возьмем Психачева из «Трудов и дней Свистонова» — одним из его прототипов был Петр Сторицын, говоривший всем гадости, а у Вагинова этого совершенно не было, поэтому к нему хорошо относились литературные собратья, к нему в гости могли даже пролетарские писатели зайти. Он просто предупреждал остальных, что при них не нужно лишнего говорить. Даже сосед, обычный пролетарий, любил Вагинова, из хорошего отношения провел к нему электричество. Он считал, что тот по бедности не может этого сделать, а Вагинов просто не хотел. И вот сосед, когда Вагинов куда-то ушел, за свой счет провел электричество. Думал: бедный несчастный интеллигент пишет стихи и сидит при свечах. Вагинову это очень не понравилось, но он не стал, естественно, выдирать провода. Так что он в этом смысле был уникален — человек, который никому не мешал; более того, к нему все относились с симпатией. И этим он отличался от Хармса и Введенского, к которым относились по-разному по самым разным причинам.
Вагинов как поэт вписывался во многие литературные объединения. Если мы возьмем «Цех поэтов» Гумилева, то мы не можем сказать, что Вагинов не подходил ему. Или кружок «Звучащая раковина», с Фредерикой Наппельбаум он очень дружил, туда же входила Вера Лурье, в которую он был влюблен.
«Кузмин дома никогда не ужинал, ходил в гости, а к себе приглашал на чай с „киевским вареньем”»
Мне кажется, молодежные кружки создавались не только по интересам, но и просто по взаимным симпатиям. Неслучайно Ида Моисеевна Наппельбаум много писала и говорила о том, что у них на «понедельниках» было бесконечное количество романов. Кружок распался, когда все члены переженились, а кто-то уехал в Москву. Вагинов, кстати, свою жену Александру Ивановну встретил именно таким образом: она тоже посещала и студию Гумилева, и «Звучащую раковину», и на «понедельники» она, по-моему, приходила. Они поженились позже, в 1926 году, но познакомились как раз в этих кружках. Так что тут все было связано. Молодежь любит вместе находиться, личные связи, общение играли далеко не последнюю роль. Можно спорить о литературе, а потом вместе пойти гулять. Когда Вагинов учился в Институте истории искусств, то было принято провожать преподавателей домой. То есть эта часть жизни (как бы сейчас сказали, «движуха) тогда тоже занимала не последнее место. Тем более что все жили очень голодно, и у Наппельбаумов на «понедельниках», поскольку отец был известный фотограф, всех кормили бутербродами. То ли у Басалаева в мемуарах, то ли еще где-то отмечено, где чем кормили в каких кружках, и все знали, что у Наппельбаумов обязательно бутерброды, а Кузмин, к примеру, дома никогда не ужинал, ходил в гости, а к себе приглашал на чай с «киевским вареньем». Что такое киевское варенье — вопрос сложный. Разные источники дают разные сведения. Причем я даже в каких-то кулинарных книжках искала. Есть две версии. Первая — это засахаренные фрукты. Сейчас любые есть, а тогда, когда я была маленькая, был другой набор, они были все одинаковые — ломтиками. И мне несколько человек говорили, что засахаренные фрукты — это и есть киевское варенье. А другая точка зрения: «киевское варенье» — это просто тип. Я-то думала, что киевское варенье, как киевский торт, изначально делалось в Киеве, поэтому киевское, а другие говорили, что это очень густое варенье, которое долго варится. У И. М. Наппельбаум и И. А. Лихачева я об этом как-то не спросила. Короче говоря, к Кузмину приходили пить чай с киевским вареньем и еще, не знаю почему, с маслом. У него сливочное масло, видимо, по талонам откуда-то было. И у Басалаева с юмором сказано: «Вы сегодня придете на масло к Кузмину?» Все были голодные и знали, где можно бутерброды поесть, где чай с вареньем попить — это тоже не последнюю роль играло.

«В 1920-е годы многие увлекались кокаином, и Вагинов тоже»
Насколько биография Вагинова повлияла на его творчество, сказать трудно, поскольку, когда он жил с родителями, те его знакомые, с которыми я говорила, у него дома не бывали, не были толком в курсе детских, ранних юношеских фактов его биографии. Кроме общеизвестных, что отец Вагинова был жандармский подполковник, потом полковник, а после революции развелся с матерью и жил отдельно, чтобы не было у детей неприятностей, поскольку у него нехорошее прошлое с точки зрения новой революционной действительности. С другой стороны, в его первом романе «Козлиная песнь» биографический момент очень даже отразился, на это неоднократно указывала его жена, Александра Ивановна. То, что он пишет про девушку Лиду, — она действительно была, Вагинов про нее много рассказывал. Тогда, в 1920-е годы, многие увлекались кокаином, и Вагинов тоже, благодаря Лиде он бросил это увлечение. Александра Ивановна тоже поставила условие, когда Вагинов сделал ей предложение, чтобы не было никаких наркотиков. В «Козлиной песни» отражены блуждания по городу, родительская библиотека — «Гиббон и всяческая археология». Действительно, книга «Упадок и разрушение Римской империи» Гиббона была у Вагинова дома. Есть, например, любопытная деталь — описание Александровского рынка в районе Вознесенского проспекта, где книги продавались на вес, Вагинов их там покупал. Так что какие-то реалии, связанные с юношеством и даже детством, в его творчестве отразились. Отец Вагинова был человеком очень образованным, поэтому у них была хорошая библиотека по античности, по искусству, отсюда «Взращен искусством я от колыбели».
Вагинов участвовал в Гражданской войне. В 1916 году он только окончил гимназию, поступил на юридический факультет Петроградского университета, год там проучился, а потом его забрали в Красную армию. У него с детства было слабое здоровье, туберкулеза у него как такового еще не нашли, но он был, как тогда говорили, «слабогрудый», просто хилый, поэтому в основном работал писарем. Может быть, это ему жизнь и спасло, об этом тоже есть в стихах. «Я в толпе сермяжного войска. В Польшу налет и перелет на Восток», «Стая белых людей лошадь грызет при луне», «О, как сияет китайское мертвое солнце!» В сборнике «Петербургские ночи» — «У каждого во рту нога его соседа»; это почти в чистом виде воспоминания, как в теплушках, где было значительно больше людей, чем положено по любым санитарным нормам, он возвращался в Петроград. А потом он где-то в 1920–1921-м уже был здесь, в шинели ходил в Дом искусства и начал участвовать во всех этих кружках. Его демобилизовали по болезни — Вагинов заболел тифом, — и тифозный барак описывает в ранней своей прозе «Звезда Вифлеема».
Революцию 1917 года Вагинов воспринял как гибель культуры. У него в ранней прозе («Монастырь Господа нашего Аполлона», «Звезда Вифлеема») есть довольно резкие высказывания на эту тему. Для него революция стала трагедией людей, которые занимались наукой, культурой, искусством, историей и не могли найти место в новом мире. Ну как-то находили, как те же самые Бахтин, Пумпянский, — должны были писать рецензии, критиковать фрейдизм, формальный метод или еще что-то; какая-то поденная литературная работа. Все как-то выживали, но не в кругу своих традиционных ценностей, когда все университетские курсы были пересмотрены, все поставлено с ног на голову по идеологическим соображениям.
Уже в 1930-е годы, когда по инициативе Горького писатели собирали материалы по истории фабрик и заводов, Вагинов начал писать роман о событиях 1905 года. Вагинов и Ульянский по Нарвской заставе собирали материалы, беседовали, потом у Ульянского книжка вышла, а Вагинов не успел, умер.
«Проклятый бог сухой и злой Эллады / На пристани остановил меня»
Важную роль в поэтике Вагинова сыграло его увлечение античностью, это все время присутствует в его стихах: «Не растворяй в сырую ночь, Геката»… Вагинов, с одной стороны, восхищается античными богами, а с другой — говорит о них: «Проклятый бог сухой и злой Эллады / На пристани остановил меня». Он читал не только «Мифы Древней Греции», но и книги античных авторов, которые были у него дома, исследования по античности — например, труды Ф. Ф. Зелинского. Вагинов хорошо знал предмет с разных сторон, знал и источники, и трактовку этих источников. И в этой связи очень серьезную роль сыграло его общение с кружком «АБДЕМ» (Болдырев, Доватур, Егунов, Миханков). Он присутствовал на их семинарах, а с Егуновым занимался греческим языком, у Вагинова в гимназии не было греческого. Позже, уже в середине 1920-х годов, он пробовал переводить «Дафниса и Хлою» Лонга, что говорит, по-видимому, об исследовательской склонности к античности. В юности Вагинов поглощал огромные книги, где-то в начале 1920-х, покупал их на замечательной книжной барахолке, потом посещал семинары эллинистов — это было, во всяком случае, присутствие при научно-исследовательской работе. Потому что они читали и комментировали тексты, переводили, в частности, «Эфиопику» Гелиодора. Вагинов не только знакомился с текстами: Егунов рассказывал, как ему был интересен сырой перевод. Это давало какой-то толчок для его романов с точки зрения языка: не когда уже отглажено все, а когда только переводится с одного языка на другой.
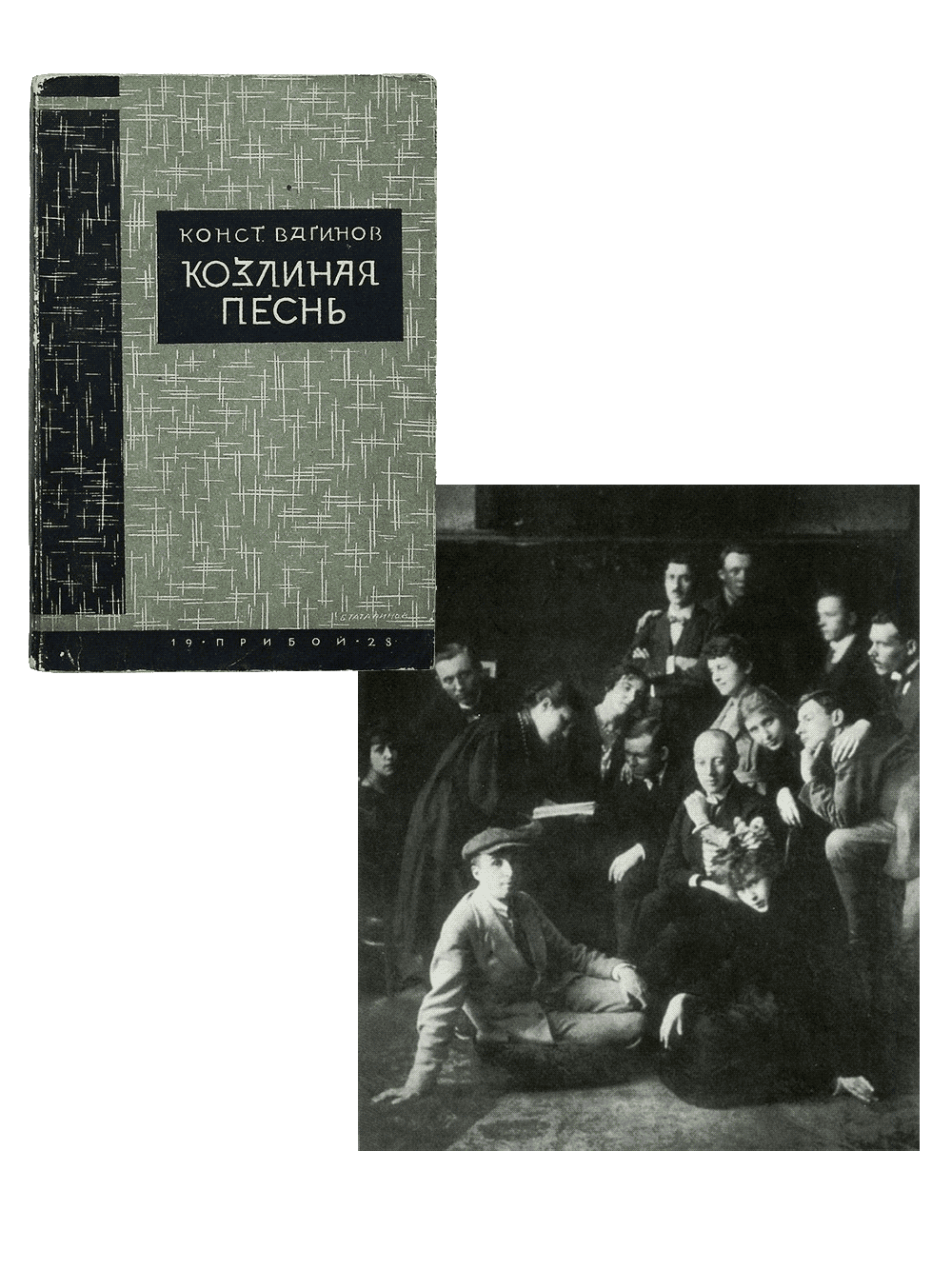
Сверху: обложка романа Константина Вагинова «Козлиная песнь», 1928 год, издательство «Прибой». Снизу: студия «Звучащая раковина», 1921 год, фото Моисея Наппельбаума. В центре – Николай Гумилев, слева от него – Фредерика и Ида Наппельбаум, справа – Вера Лурье и Константин Вагинов, внизу гости: Георгий Иванов и Ирина Одоевцева
Фото: vaginov.do.am / auction-imperia.ru
Когда произносят имя Вагинова, всегда возникает образ Петербурга — это одна из его визитных карточек. Действительно, трудно найти в 1920-е годы более петербургского писателя, чем Вагинов, хотя, безусловно, и другие писали на тему Петербурга, и писали неплохо. Например, Михаил Козаков, которого с Вагиновым сближает интерес к чудакам, например, в его «Повести о карлике Максе», где изображена жизнь лилипутов, карликов. Но, в отличие от него, Вагинов более объемный, многомерный, хотя проза Козакова 1920-х годов построена на чисто петербургском, точнее даже ленинградском материале. В его повести «Мещанин Адамейко», где так же, как и у Вагинова, много от Достоевского, берется «Преступление и наказание» и накладывается на быт мест Достоевского 1920-х. Я писала об этой вещи, и в журнале «Суд идет» нашла именно те процессы, которые упоминаются в романе. Но если у Казакова два измерения, то у Вагинова их двадцать два. С одной стороны, там есть всякие смешные чудаки, «маленькие люди» русской литературы; опять же — характерный петербургский пейзаж, самый центр. Но в «Бамбочаде» уже описана какая-то окраина, а в «Гарпагониане» Обводный канал и другие районы. С одной стороны, это Достоевский, а с другой — Андрей Белый. Все это переплавлено, и, что для Вагинова характерно, он одновременно исходил из литературы и жизни, поскольку каждый день куда-то ходил, в какую-то компанию. У многих его персонажей были прототипы, поэтому, когда он читал первый роман «Козлиная песнь», многие узнавали в персонажах себя, хотя он брал только какие-то отдельные черты людей, но далеко не все, это не фотографические изображения. Фотографическими могли быть пейзажи. И что интересно, именно Вагиновым подпитываются современные петербургские писатели. У меня была статья в сборнике, посвященном М. О. Чудаковой, о том, как Вагинов отражается в современной питерской прозе. Это началось в 1960-е годы, когда имя Вагинова стало упоминаться в печати. Тогда был кружок «Малая Садовая», откуда вышел один мой соавтор, комментатор Вагинова, поэт, теоретик В. И. Эрль и еще Н. И. Николаев, специалист по Пумпянскому, по Бахтину, ведущий сотрудник библиотеки СПб университета. Они там каждый день пили кофе. Люди ходили в «Публичку», читали книжки; например, мой однокурсник Женя Звягин, ставший известным писателем, впервые услышал имя Вагинова тогда. Были всякие самиздатские журналы, и он в журнале «Обводный канал» где-то в 1980-х годах написал о Вагинове, как он его воспринимает. И дальше в его прозе, тоже основанной на ленинградских сюжетах, заметно влияние Вагинова. Смесь комического и трагического — для него такое слияние главное.
«Для Вагинова трагедия упадка культуры была связана с превращением Петербурга в Ленинград»
В советские годы Вагинов не издавался, но официально не был запрещен — в этом его парадокс. Он умер в 1934 году, а не в 1937-м. Но, с другой стороны, если бы он не умер, то его бы арестовали. Потому что 1934 год — это убийство Кирова, после которого провели массовую высылку дворян из Ленинграда. Его мать выслали, и пришли к нему (не зная, что писатель умер) с ордером на арест — это рассказывала Александра Ивановна. Забрали часть материалов романа о 1905-м годе, часть архива. Мать была арестована, сослана и в конце концов погибла. Александру Ивановну это не затронуло: она работала библиотекарем в Союзе писателей, потом она повторно вышла замуж. Первое издание Вагинова — это 1989 год, а последнее издание «Козлиной песни» — 2013 год. Книжка вышла тиражом 2000, и ее уже почти не достать. Я с большим трудом выпросила себе авторские экземпляры. Если для Вагинова трагедия упадка культуры была связана с превращением Петербурга в Ленинград, то в начале 1990-х некоторую, если хотите, катастрофичность вызвал обратный процесс перехода Ленинграда в Петербург. Может быть, обращение к Вагинову связано еще и с уничтожением элитарности (об этом писал, например, Александр Скидан). Если раньше, когда Вагинова не печатали, нужно было узнать его имя, пойти в Публичную библиотеку, то где-то в первой половине 1990-х массовыми тиражами стали печатать неподцензурную литературу: и Вагинова, и Набокова. Первоначальный всплеск впоследствии привел к потере острого интереса к тому, что прежде было запрещено или труднодоступно. И этот переходный период возбудил новое прочтение Вагинова и обращение к нему. У хорошего писателя Сергея Носова есть повесть о Сенной площади периода 1990-х годов, называется «Член общества, или Голодное время». Там чувствуется сильное влияние «Бамбочады» Вагинова. Про Союз писателей, который тогда еще не сгорел, как там собирается придуманное им Общество библиофилов, где дама делает доклад о пятнах на книге: отчего эти пятна могли произойти, как жили герои, если это пятно проанализировать. То ли оно было от хорошей, жирной кулебяки, то ли от прогорклого растительного масла. Это отсылка к Обществу собирания мелочей у Вагинова в «Бамбочаде», которое перекликается с коллекционерами из «Гарпагонианы». Так что вот такой был феномен — это с одной стороны. А с другой стороны, романы с ключом на петербургском-ленинградском материале. Вагинов в романах «Козлиная песнь» и «Труды и дни Свистонова» описал определенную прослойку писателей, а писательница Маруся Климова написала роман «Белокурые бестии», где вывела «митьков», круг Тимура Новикова. Выведены очень злобно, надо сказать, и тоже не без влияния Вагинова, кто-то на нее в суд хотел подавать.