«Ты пела до зари, в слезах изнемогая»: почему великие поэты не боятся быть пошлыми
Как проникнуть в лирические бездны Афанасия Фета
Олег Лекманов: Для начала попросим поэта Всеволода Емелина прочесть это стихотворение Фета.
Всеволод Емелин (читает):
Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнию твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.
И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь.
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!
Роман Лейбов: Аплодисменты!
Олег Лекманов: Я бы хотел задать одну из тем, без обсуждения которой мы сегодня точно не обойдемся — тему поэтического мастерства Фета, и чуть-чуть поговорить о предметном мире стихотворения «Сияла ночь...». Почти все в нем намеренно расплывчатое, смазанное, нечеткое. Тем большее впечатление на читателя производит третий стих стихотворения («Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали»), поскольку в емкое изображение кабинетного рояля встроены здесь две очень конкретные и выразительные детали — крышка рояля открыта, а струны дрожат от ударов войлочных молоточков. Недаром этот стих — самый запоминающийся, его цитируют чаще всего. Рояль не только участвует (через сравнение) в ключевом для стихотворения взаимоуподоблении музыки и любви, но и сам превращается в едва ли не полноправного участника любовной сцены. И струны в нем дрожат, как сердца, и сам он раскрыт, как раскрыты навстречу любви сердца героев. В какой-то мере он замещает собою лирического героя (отметим, что в стихотворении ни разу не употребляется личное местоимение «я»).
От фетовского помещения предмета в смысловой центр стихотворения, от фетовского олицетворения предмета и его умения обозначить душевное состояние внешним признаком — прямой путь к предметной лирике Анненского, Ахматовой и особенно Пастернака с его природными и рукотворными предметами, участвующими в любовных отношениях лирического героя.
Роман Лейбов: Спасибо большое. Я думаю, что другие участники еще подхватят то, о чем ты говорил. А я хочу рассказать немножко о другом. Пожалуй, это первое стихотворение в нашей подборке, которое пользовалось большей популярностью в виде романса, а не собственно текста. У этого стихотворения (о чем наверняка кто-нибудь еще скажет) была не очень простая судьба (как и у многих других стихов Фета). Появилось это стихотворение достаточно поздно, когда одна заря Фета закатилась, а другая только восходила. И, кажется, оно распространилось сначала даже не в виде песни. Во всяком случае, первая зафиксированная звукозапись, которая связана с этим стихотворением, — это не романс, который я вам еще поставлю, а чтение в удивительном жанре мелодекламации. Мелодекламация — очень популярный жанр в России второй половины XIX — начала ХХ века . Безумным успехом пользовались сборники «Чтец-декламатор», а образцы любителям декламации задавали артисты. Для этого жанра писались специальные музыкальные пьесы. Это не то же самое, что взять любые красивые стихи, например Маяковского, и читать их под любую красивую музыку, например, «Лунную сонату», — ничего подобного. Если я читаю «Нате» Маяковского, то авангардный композитор пишет мне для этого специальную музыку. Это, конечно, шутка — авангардисты таким не занимались, а вот люди демократически-буржуазной культуры охотно прибегали к мелодекламациям, там был свой репертуар авторов, и это стихотворение, конечно же, входило в такой декламационный канон. Я вам поставлю сейчас запись, это довольно ранняя пластинка (они вообще начинают распространяться где-то уже только в новом веке, а активно — с десятых годов). Эта запись, если я правильно понимаю, 1911 года, мелодекламация Николая Ходотова, знаменитого в свое время артиста императорских театров, приятеля Комиссаржевской, который окончил свою жизнь в СССР... Последнюю роль он сыграл в фильме братьев Васильевых «Личное дело», не сохранившемся, в котором исполнил роль богомольного, но очень сознательного старого пролетария, в конце концов пришедшего к тому, что классовое важнее религиозного, поэтому церковные колокола (а он звонарь) нужно отдать на переплавку, а потом выточить (а он токарь) винт для какой-то чудовищной посудины, которую они спускают в конце на воду. (Ходотов, к счастью, не дожил до премьеры этого фильма.) Но в 1911 году до этого было еще далеко, вот послушайте его мелодекламацию, подобных записей сохранилось довольно много, и, кстати сказать, я думаю, что на исполнительскую манеру Вертинского в значительной степени повлияла именно мелодекламационная культура. Послушаем первые две строфы этого стихотворения.
(Звучит мелодекламация, первые 2 строфы)
Роман Лейбов: Очень милая композиция Вильбушевича, который специально работал с Ходотовым. Можно реконструировать историю распространения фетовского текста, но мы не знаем, когда возникает романс. Романс — гораздо более знаменитый, потому что мелодекламация больше привязана к конкретному исполнителю. Этот романс в некоторых источниках иногда опрометчиво датируют семидесятыми годами, но это совсем какое-то безумие, потому что первое издание сборника Фета «Вечерние огни», в котором текст был опубликован, вышло в 1883 году. Есть подозрение, что популярность мелодекламации этого текста предшествовала появлению романса. Романс написан композитором Н. Ширяевым, которого в некоторых источниках называют Николаем, но это не факт; мы о нем почти ничего не знаем, сохранились некоторые его ноты — например, мазурка, которая является также гимном Московского клуба лыжников. Но биографических данных об этом композиторе нет. Романс на стихи Фета, кажется, самое знаменитое ширяевское произведение — по крайней мере, единственное записанное на грампластинку. Зато ему была суждена долгая жизнь, которая, в общем, до сих пор не закончилась.
Перед Н. Ширяевым была серьезная проблема: фетовское стихотворение очень музыкально, но при этом первая его строка всячески препятствует песенному исполнению. Две точки внутри строки, и ни одна из них не совпадает с естественным делением этой длинной строки на два коротких фрагмента, которые слышны очень хорошо и в исполнении Ходотова, и в декламации Емелина. Н. Ширяев поступил просто: он изменил текст, и в таком виде он распространен до сих пор. (Кстати говоря, Набоков, цитируя романс в «Аде» в собственном переводе на английский, использует оригинальный текст Фета, а не романса.)
Этот романс до сих пор входит в репертуар певцов-любителей и профессионалов. Первые две строчки безнадежно искалечены: «сияла ночь» осталось, «луной был полон сад» осталось, а дальше строка обрывается: «Сияла ночь. Луной был полон сад./ Сидели мы с тобой в гостиной без огней...»
Это исполнение Юрия Морфесси, замечательного русского баритона греческого происхождения. Запись сделана чуть позже, это 1914 год.
Роман Лейбов: Я заканчиваю эту прекрасную демонстрацию, но не свой рассказ. Повторю еще раз: кажется, не столько стихотворение Фета, сколько романс Ширяева послужил исключительной популярности этой стиховой формы — назовем это шестистопным ямбом с чередованием «женских» и «мужских» рифм. Длинные строчки, которые распадаются на две части по шесть слогов (или 6+7), в русской традиции чаще встречаются в другом складе, где они совпадают друг с другом, более длинные — с более длинными, чуть более короткие — с более короткими, и рифмуются попарно:
Недорого ценю (пауза) я громкие права,
От коих не одна (пауза) кружится голова.
Я не ропщу о том, (пауза) что отказали боги
Мне в сладкой участи (пауза) оспоривать налоги.
Пушкин, «Из Пиндемонти»
Петь это не очень хочется, это серьезные стихи, они больше подходят для того, чтобы их произносить вслух, или вообще для театра допушкинской эпохи. У Фета другой случай — стихи чередуются через один: женские — мужские... Стихи с таким чередованием встречались и до Фета, но песенную популярность они приобретают только после этого стихотворения.
Я напомню еще о трех сильных текстах, связанных с этим стихотворением. Они все про любовь. Первый — знаменитое стихотворение Пастернака «Пью горечь тубероз, небес осенних горечь...», а два других соотносятся со стихотворением Фета очень смешно. Это песни, одна — Высоцкого, другая — Окуджавы. У Высоцкого, как и у Фета, это песня о недостижимой и потусторонней любви:
Наверно, я погиб. Глаза закрою — вижу.
Наверно, я погиб: робею, а потом —
Куда мне до нее! Она была в Париже,
И я вчера узнал — не только в нем одном.
«Она была в Париже»
У Окуджавы песня тоже на эту тему, но у Высоцкого поет лирический герой:
Какие песни пел я ей про Север Дальний!
Я думал: вот чуть-чуть — и будем мы на ты,
Но я напрасно пел о полосе нейтральной —
Ей глубоко плевать, какие там цветы.
А у Окуджавы герой и музыкант разделены, а героиня является третьей. Это второй вариант его «Чудесного вальса»:
Заезжий музыкант целуется с трубою.
Пассажи по утрам, так просто, ни о чем...
Он любит не тебя, опомнись, Бог с тобой
Прижмись ко мне плечом. Прижмись ко мне плечом.
Это «законные дети» Фета.
Есть и другие, незаконные дети. Я не буду цитировать эту чудовищную, омерзительную и не очень смешную пародию; это школьный перепев, мусорное искажение песни Фета, которое я помню с детства. У нее есть два варианта. Первый — слияние двух текстов, запись исполнения этого варианта Марком Фрейдкиным называется «Песня про деревянную ногу». В нем пародия на Фета как-то соединилась с другим сюжетом, и они вместе образовали еще более чудовищный конгломерат. Но я слышал это именно в виде чистой пародии на Фета, где первая строчка может варьироваться: в том варианте, который я помню по записям в детских тетрадках начала 1970-х гг, звучало так:
В тропическом лесу купил я дачу...
Но мне приходилось слышать и другие варианты. А прямая пародия всплывала в последней строфе, которая прямо перелицовывала фетовский текст:
Ты пела так, что выли все собаки,
И у соседа обвалился потолок,
И мне хотелося без шума и без драки
Обнять, поднять тебя и стукнуть об пенек.
Иногда вместо последнего глагола используется более энергичный.
Если у текста есть законные и незаконные «дети», это знак его силы.
Здесь мы обычно даем слово экспертам, которые сообщают, что они думают об этом стихотворении, но сегодня будет немножко по-другому: Михаил сразу расскажет, почему оно ему не нравится. Еще ни разу к нам не приходил человек с таким точным пониманием, о чем он будет говорить. А после мы перейдем к нашим обычным разговорам.
 Афанасий Фет на ослике. Воробьевка. 1890. Фото С. Д. Боткина
Афанасий Фет на ослике. Воробьевка. 1890. Фото С. Д. Боткина
Михаил Вишневский: На самом деле я хочу рассказать не о том, почему мне не нравится стихотворение, а о том, почему Фет вообще писать не умеет. Во-первых, очевидно, что это ложное утверждение, а во-вторых, недоказуемое, потому что искусство полностью субъективно, и, что бы я ни сказал и как бы ни пытался аргументировать, все сводится к «мне нравится/не нравится». Но я выбрал, на мой взгляд, достаточно объективную колокольню, с высоты которой буду смотреть на стихотворение Фета. Это колокольня современной поэзии, ставящей тексту свои условия, по которым определяется его качество.
Первый и самый важный критерий — это рифма. В эпоху постмодерна, постправды и всего остального «пост-» в стихотворении важна не глубина смысла, а звучание. Рифма очень сильно на это влияет. А у Фета простейшие глагольные рифмы. Понятие о том, какой должна быть рифма, варьируется: кто-то говорит, что рифмы должны быть заковыристыми, кто-то — что хоть какими-нибудь, но все сходятся на том, что рифмы должны быть хотя бы не глагольными. У Фета удивительно: «лежали — дрожали», «изнемогая — роняя», «вновь — любовь» и так далее.
Это не единственный пункт, ведь в таком случае перестает быть гениальным Цой, у которого точно встречается рифма «кровь — любовь», весь Золотой век поэзии тоже отправляется в топку, потому что на глаголы тогда рифмовали все. Поэтому обратимся к следующему критерию, важному для современной поэзии, — к ритму. Что нам говорят современные поэты? (Здесь я опираюсь на своего любимого современного поэта Максима Тесли.) В стихотворении должен быть интересный ритм, оно не должно звучать как сто других стихотворений, которые вы читали до этого. Сейчас я снова прочитаю стихотворение Фета.
(Читает первую строфу)
Если поискать в гугле или в яндексе слово «стихотворение», результат будет примерно таким, что далеко не комплимент. Стихотворение должно запоминаться, как и любое другое искусство, потому что искусство — вечно, оно для всех. А стихотворения с подобной ритмической структурой не запоминаются вообще. Поэтому я очень люблю Маяковского. Я, может быть, не всегда понимаю смысл того, о чем он говорит, но само стихотворение звучит интересно, в нем хорошие рифмы.
Можно возразить, что нужно смотреть на все в историческом контексте и что тогда не писали по-другому. Тогда действительно не писали по-другому. Это сейчас принято делать хитрые рифмы и хитрый ритм, а тогда было не настолько принято экспериментировать. Но искусство все-таки претендует на устремление в бесконечность. Изобретатель лампочки подозревает, что через двадцать лет она будет стоять в музее, никому не нужная в быту, а поэт должен стремиться, чтобы его стихотворение цитировали и через 50 лет, и через 100, и через 200. Поэтому я считаю себя вправе смотреть на стихотворение Фета с точки зрения современной поэзии.
Стихотворения Фета бессмысленные и незапоминающиеся. У меня есть собственный критерий качества стихотворения, который я считаю если не гениальным, то очень хорошим. Чтобы определить, хорошее стихотворение или нет, решите для себя: если бы у вас была кисть, краска и стена, написали бы вы строчку из этого стихотворения на стене? Это очень хороший показатель. Например, у Пушкина есть стихотворение «К Чаадаеву», его последняя строчка: «Россия вспрянет ото сна, / и на обломках самовластья / Напишут наши имена». Стихотворение написано с простейшими рифмами, частично с глагольными. По всем моим предыдущим параметрам оно улетает в трубу. Но в нем есть очень запоминающиеся образы, которые впиваются в сердце. Стихотворения Пушкина, Маяковского, Есенина, Цветаевой, Ахматовой — все они заслуживают того, чтобы их где-нибудь написали: если не на стене, то хотя бы в блокноте. К Фету это не относится. В его стихотворениях есть образы, однако они не такие понятные и красивые, как у других. Дело даже не в красоте, а в яркости. У Фета нет ярких образов, а те, что есть, он не может интересно подать. И, на мой взгляд, это фатально для поэта.
Олег Лекманов: Большое спасибо. Мы все очень внимательно слушали, но особенно были сосредоточены и серьезны представители современной поэзии, Всеволод Емелин и Иван Давыдов, которые...
Роман Лейбов: Мотали на ус.
Олег Лекманов: Тихонько мотали на ус, да, отсутствующий, впрочем, у обоих. Спасибо, Миша. Я думаю, мы сегодня еще откликнемся на вашу реплику. А теперь пора специалистам вступиться за Фета или просто сказать про него то, что они хотят.
Леа Пильд: Добрый вечер. Я выслушала всех с большим интересом. Защищать Фета я не буду. Историю создания этого стихотворения рассказала в мемуарах «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» Татьяна Кузьминская — сестра Софьи Андреевны, супруги Льва Толстого. Кузьминская исполняла в имении Толстого романсы Глинки «Я помню чудное мгновенье» и «К ней», а также «Крошку» Булахова на слова Фета. Сразу после концерта Фет написал стихотворение «Сияла ночь...», вспомнив предыдущее ее выступление, состоявшееся в 1866 году в Черемошне, имении Дьяковых. Датировка в мемуарах неверная, но известно, что второе исполнение состоялось в конце июля 1877 года. Такова предыстория.
Теперь что касается первой строфы. Все обратили на нее внимание. Я тоже, видимо, буду больше всего говорить об этой строфе и как бы с ее точки зрения посмотрю на все остальные строфы. Но сначала я подчеркну, что это не просто единичное стихотворение на случай, на самом деле оно входит в группу других текстов Фета со сходным лирическим сюжетом. В основе сюжета этих стихов — воспоминание о прослушивании музыкального произведения («Какие-то носятся звуки» 1853 года, «Прежние звуки с былым обаяньем» 1862 года, дальше по хронологии — «Сияла ночь» и «Шопену», — стихотворение 1882 года).
Все эти стихотворения разделены на три композиционно-смысловые части. Но акцент в каждом разный — например, в стихотворении 1853 года на первый план выходит мотив «разлуки», в стихотворении «Шопену» — «новая встреча» и «прощание с возлюбленной». В стихотворении «Сияла ночь...» описывается предыдущая встреча с певицей, о которой вспоминает лирический герой, новая встреча и пение. Такая структура хорошо соотносится с композицией пушкинского «Я помню чудное мгновенье» и одноименным романсом Глинки... Однако любой текст, будучи положенным на музыку, искажается. Именно это происходит с пушкинским стихотворением у Глинки.
Действительно, первая строфа фетовского стихотворения очень странная. И не только потому, что она разговорная и фрагментарная. Фрагментарность отражает воспоминания лирического героя. В его памяти всплывают картины: «сияла ночь», «луной был полон сад»; затем пространство постепенно сужается: сначала ночь, потом сад, потом гостиная, рояль и, наконец, слушатели. «Мы» — это слушатели, их несколько, на что указывает предлог «за» («за песнею твоей»), они находятся как бы вне песни, то есть «я» у Фета не наедине с «ты», как в романсе Ширяева («сидели мы с тобой»), а «за песнею». Это прямое отражение ситуации слушания, что очень необычно для Фета. Обратим внимание, что местоимение «мы» в последующих строфах исчезает.
![]() Далее («Луной был полон сад. Лежали/ Лучи у наших ног в гостиной без огней») — еще одна странность, которая заключается в том, что в гостиной нет окон: ночь и луна проникают непосредственно в гостиную. А окна у Фета — частый пространственный образ, обладающий сложной символикой.
Далее («Луной был полон сад. Лежали/ Лучи у наших ног в гостиной без огней») — еще одна странность, которая заключается в том, что в гостиной нет окон: ночь и луна проникают непосредственно в гостиную. А окна у Фета — частый пространственный образ, обладающий сложной символикой.
Гостиная наполняется лунным светом («Лежали лучи у наших ног в гостиной без огней»), то есть движение света идет вертикально вниз. Рояль изображен очень необычно. Олег уже говорил об этом («Рояль был весь раскрыт»). Рояль оживает, он уподоблен цветку. У Фета есть несколько стихотворений, где раскрывается «весь» цветок: например, тюльпан в его ранней балладе «Сильфы» («И весь упоенный раскрылся тюльпан») — или же раскрывается уподобленный цветку слух («слух, раскрываясь, растет, как полуночный цветок») в стихотворении «Жду я, тревогой объят...». Интересно, что рояль — инструмент не клавишный, а струнный. Во всех фетовских стихах это инструмент без клавиш. Клавиши появляются только в его переводе «Элегии» Мюссе. Это не случайно, потому что струны отсылают нас к мифологической традиции, которая для Фета как автора антологических стихов была очень важна. Таким образом, струны — атрибут лиры Аполлона, а рояль — божественный инструмент, причастный гармонии мироздания.
«Струны дрожат», они расположены в рояле, в отличие от пианино, горизонтально. Вертикаль, соединяющая небо с теми, кто сидит в гостиной, идет от Луны, лунного света, а рояль образует горизонталь, он дрожит, как сердца, что дрожат «за песнию твоей». Возникает единое гармоническое пространство. Потом оно исчезнет: следующая встреча с певицей происходит уже в ином пространстве (третья строфа).
Перейдем ко второй строфе и упрекам в пошлости и банальности рифм. Что такое «в слезах изнемогая»? Это попытка описать интонацию пения и намек на визуальный образ певицы. «Ты пела до зари» — опять появляется свет, но уже другой: свет лунный сменяется светом зари. Во втором стихе второй строфы описано содержание песни, которую поет певица («Что ты одна — любовь. И нет любви иной»), и оно доходит до сознания героя не столько через слова, сколько через музыку. Музыка приравнивается к любви, потому что «я» хочет жить в полном согласии с музыкой («И так хотелось жить, чтоб звука не роняя»). Акцент на «так»: «ТАК хотелось жить, чтоб, звуков не роняя...». То есть нельзя нарушить целостность музыкального произведения, оно неповторимо а любить можно только в музыке, пока она звучит.
На этом заканчивается первая композиционно-смысловая часть стихотворения, и начинается вторая. Она очень короткая — это первый стих третьей строфы: «И много лет прошло, томительных и скучных». Описание разлуки, которое у Пушкина развернуто, у Фета дано предельно сжато: «И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь». Во втором стихе третьей строфы воспроизводится ситуация первой строфы, но исчезает лунный свет, рояль, слушатели, есть только ночь. Добавляется образ тишины, лирический герой здесь единственный слушатель. Он уже не видит певицу, только слышит ее голос — возможно, в своем воображении. После разлуки очень многое изменилось, поэтому меняется образность.
В последней строфе высказывается мысль о том, что жизни нет конца: герой понимает, что жить в пении и музыке уже поздно, можно только «веровать в рыдающие звуки» и в тождественную пению любовь. Музыка дает бессмертие, преодоление времени — об этом писал Н. В. Недоброво в связи с фетовским стихотворением «Теперь». А это стихотворение изначально называлось «Опять». Между названиями есть некоторая перекличка: эти повторы-возвращения (пение) могут неоднократно возникать в жизни или воображении, и в эти моменты будет появляться иллюзия, что время можно преодолеть («жизни нет конца»).
Что касается инфинитивов в конце строф, то здесь, вероятно, отражаются пушкинский текст и романс Глинки («и жизнь, и слезы, и любовь» — у Фета есть и «жизнь», и «слезы» («плакать над тобой», «рыдающие звуки»), и «любовь» («любить»).
Инфинитив «обнять» и все инфинитивные повторы в конце строф, возможно, отражают словесно-музыкальную структуру романса Глинки «К ней». Написанный в ритме мазурки, он заканчивается инфинитивным повтором: «И целовать, целовать, целовать».
Сила стихотворения «Сияла ночь...» в том, что Фет в нем пытается пробиться к музыке, как-то ее воспроизвести: он слушает, и его музыкальные впечатления отражаются в стихотворении. «Сияла ночь...» и другие стихи с похожим лирическим сюжетом строятся у Фета на пересечении песенно-романсной и классической музыкальных традиций.
Выскажу одну гипотезу. Из переписки Марии Петровны Боткиной-Фет с братом известно, что Фет постоянно слушал фортепианные сонаты Бетховена в исполнении жены. Возможно, он отметил для себя трехчастную структуру 26 фортепианной сонаты, где все три части озаглавлены. Первая часть называется «Прощание» (Lebewohl), вторая — «Отсутствие» (Abwesenheit), а третья — «Новая встреча» или «Свидание» (Wiedersehen).
Олег Лекманов: Спасибо большое, Леа. Я хочу обратить внимание на то, что хотя Леа Лембитовна не отвечала напрямую Михаилу, но в ее разборе ответ все же есть. Михаил говорит об очень прямых средствах воздействия, а Леа Лембитовна — о тонкой нюансировке, которую в этом стихотворении она выявляет и которая показывает, что Фет был изысканным и сложным поэтом.
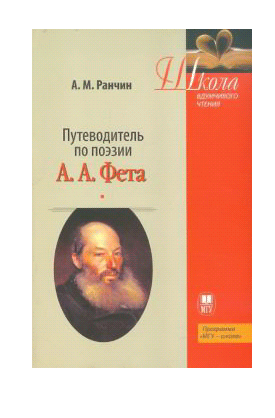 Лев Соболев: Добрый вечер. Начну с того, что в книге Андрея Ранчина «Путеводитель по поэзии Фета» есть очень убедительный, интересный и содержательный разбор нашего стихотворения. Я постараюсь не повторять содержание этой книги и общие места, свойственные разговору об этом стихотворении.
Лев Соболев: Добрый вечер. Начну с того, что в книге Андрея Ранчина «Путеводитель по поэзии Фета» есть очень убедительный, интересный и содержательный разбор нашего стихотворения. Я постараюсь не повторять содержание этой книги и общие места, свойственные разговору об этом стихотворении.
Ну вот, скажем, сопоставление с пушкинским «Я помню чудное мгновенье...» — Пушкин все-таки вспоминает именно образ, «виденье», а Фет — звук. На Пастернаковском семинаре Роман Лейбов цитировал фразу Лотмана: «Великий поэт не боится быть пошлым». То есть банальным, скажем так. Мне кажется, это отголосок замечания Тынянова из некролога Блоку, в котором он говорит, что Блок пользуется клишированными образами и устоявшимися жанрами, которые в высокую поэзию до него не входили. В частности, жанром романса.
Очевиден ряд Жуковский — Фет — Блок. Это поэты, для которых звук значит не меньше, чем смысл и значение... То есть содержателен сам звуковой поток. Отсюда подробность, что лирический герой вспоминает не образ, а именно звук голоса, мелодию.
В этом стихотворении очень много типичных для Фета мотивов. Скажем, сияющая ночь. В стихотворении «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер...» ночь светлая, а день мглистый. Или «веет» — любимое слово Аполлона Григорьева — для Фета тоже достаточно характерно: «Что не выскажешь словами, — пишет Фет, — звуком на душу навей».
Очень интересно посмотреть как Фет правит стихотворение в черновике, где он меняет банальное на оригинальное, что вызывало недоумение и неприятие у И. С. Тургенева с его, по словам Эйхенбаума, «диетическими воззрениями на поэзию». У Фета было «царила ночь» — стало «сияла ночь»; было «и так хотелось жить, чтоб только, дорогая...», слишком явно, стало сильнее — «звука не роняя»; было «мучительных и скучных» — стало «томительных и скучных»; очень характерные для Фета правки.
Еще несколько более общих тезисов. Роман сказал: «одна заря зашла, а другая взошла». Это очень важно для понимания того, что такое Фет 1880-х годов. И. С. Тургенев, несмотря на всю свою категоричность, был необычайно чуток к общему состоянию литературы. Он начинал как поэт, причем его первые поэмы получили одобрение Белинского. Чего, казалось бы, еще желать? А он перешел к прозе, как до него это сделали Пушкин, Лермонтов, Гоголь, который тоже начинал со стихов. Меняется эпоха: на первый план выходит проза. Но в 1880-е годы поэзия возрождается. Фет, Майков, Полонский обретают второе дыхание. «Три мальчика» — как говорил Майков, они были сверстниками, но у каждого из них была своя судьба. Интересно, что кодифицирован, то есть введен в школьную программу, только один из них. Это начало новой поэтической эпохи. В 1880–1890-е годы сначала появляются предсимволисты (Случевский, Надсон, Апухтин), а потом заявляют о себе и первые символисты. Тургенев это почувствовал, потому что его последние произведения — стихотворения в прозе.
У Фета есть очень характерная фраза: «Без поэзии жизнь напоминала бы кормление гончих в зловонной псарне». В его мироощущении есть три ценности, которые делают жизнь осмысленной: поэзия, любовь и природа. И в этом стихотворении, как и во многих других, они соединены и неотделимы друг от друга.
Я не пытаюсь защищать Фета. Я очень благодарен Мише за Маяковского и Пушкина, которых можно поставить рядом с Максимом Тесли, слава Богу. Но Фет был необычайно смелым поэтом, поэтому неслучайна судьба его сборника 1856 года с тургеневской редактурой. Кроме того, в 1842 году появляется первый верлибр в истории русской поэзии: «Я люблю многое, близкое сердцу, только редко люблю я...». И то, что вызывало пародии — у Минаева, у «Искры», у многих; то, что вызывало недоумение Тургенева, — это и есть язык Фета, его необычайная оригинальность: «Как мошки зарею, / Крылатые звуки толпятся» или «Душа замирающих скрипок» — примеров очень много, можно открыть том Фета и читать все подряд.
Роман Лейбов: Можно я скажу пару слов вдогонку? Это реплика Леа Лембитовне. Встреча со старой любовью и воскресение старых чувств — общий поэтический сюжет. Здесь есть и пересечение с поздним тютчевским стихотворением «К. Б.», которое тоже стало романсом: «Я встретил вас, и все былое...». Впрочем, романсом оно стало намного позже, так что Фет его не слышал, но там тоже есть похожие «звуки» и глагол «веять» — не менее тютчевский, чем григорьевский. Я ждал, что Леа расскажет один очень забавный сюжет из биографии Толстого, — как он возревновал к Фету, потому что очень нежно относился к свояченице, которой посвящено стихотворение, и кричал: «Что это он Таню хочет обнять, если он женатый человек?!». Очень трогательно и очень по-толстовски. Толстой не любил иносказаний и всегда стремился истолковать все иносказания в прямом смысле. Есть замечательная параллель фетовского стихотворения с главой, которая называется «Юность» и входит в одноименную толстовскую повесть. В ней мы попадаем в усадебную атмосферу, где герой грезит о возлюбленной и где сливаются звук и лунный свет. Нарастание звука и света замечательно, совершенно по-толстовки они описываются как параллельные и синонимичные друг другу. Вероятно, этот толстовский субстрат сказался в стихотворении. Эйхенбаум указывает на то, как Толстой зависит от Фета, ведь у Толстого действительно много приемов, которые транслируются из творчества современных ему поэтов. Но в этом случае именно Фет наследует раннему Толстому.
Леа Пильд: Можно я продолжу то, что ты сказал про Тютчева? На самом деле есть еще более ранний претекст — пушкинский: «Не пой, красавица, при мне...»
Роман Лейбов: Да, несомненно.
Олег Лекманов: А сейчас мы попросим сказать что-нибудь Ивана Давыдова.
Иван Давыдов: Здравствуйте, друзья. Я, конечно, после таких выступлений чувствую себя немножко самозванцем, но сами позвали — сами и...
Роман Лейбов: Ну, значит, ты не самозванец.
Иван Давыдов: У меня несколько сбивчивых и, вероятно, смешных для вас соображений, которые родились в процессе перечитывания стихотворения «Сияла ночь...». Прекрасное выступление, где задорная курносая молодежь, вбежав в избу к Фету, громила его стихотворение, должно было нас убедить, что это довольно безыскусный текст, но всегда интересно посмотреть, как сделано стихотворение: первая строка удивительна, в ней 13 слогов, как во всех нечетных строках, но при этом она такая тяжелая, где-то сломанная, и совершенно непонятно, почему она так ломается. Это сразу настраивает на серьезный разговор. А «рояль» удивительно еле отвечает «сияла»: -оял- и -иял- , сложная, непрямая диссонансная перекличка. Это же очень замысловато, за этим интересно следить.
![]() Слава Богу, уважаемые друзья-ученые, писать комментарии — ваше дело, а не мое. Но если бы меня заставили писать комментарий к этому тексту, я обратил бы внимание на третью строфу:
Слава Богу, уважаемые друзья-ученые, писать комментарии — ваше дело, а не мое. Но если бы меня заставили писать комментарий к этому тексту, я обратил бы внимание на третью строфу:
И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь...
Когда Всеволод Олегович читал его, он прочел «скучных» правильно, то есть так, как мы говорим сейчас, в соответствии с московской языковой нормой. Но очевидно, что сам Фет так не говорил, иначе не стал бы рифмовать «скучных» со «звучных».
Две эти строки напоминают гораздо более поздний прозаический текст, он более известен и содержит бездну смыслов. Этот текст в каком-то смысле призван спародировать и уничтожить душный мирок, который воспевает Фет — офицер, успешный помещик и так далее. Приведу маленький кусочек, вы его сразу узнаете:
«Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности: могут выпасть зубы, поседеть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, но голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повесы».
Это встреча Кисы Воробьянинова с Еленой Станиславовной и тут есть явная перекличка с тем, что происходит с лирическим героем Фета в третьей строфе.
Роман Лейбов: А я отвечу Мише. Понимаете, сейчас мы ведь уже больше часа обсуждаем этот текст, и мы не откопали его в каких-то пыльных сундуках. Романс — поют, текст — читают. Это не чей-то злой умысел, когда что-то канонизируют, а что-то нет. Пускай современные поэты посоревнуются через 150 лет, тогда посмотрим, будут ли их стихи разбирать на семинарах.
Михаил Вишневский: Позвольте вам возразить. Ваш аргумент несостоятелен. Во-первых, потому что все-таки через 150 лет меня уже не будет и я не смогу с вами вновь поспорить, а во-вторых, сейчас популярно прозаическое произведение Александра Полярного, которое называется «Мятная сказка». Это проза весьма сомнительная, однако крайне популярная. А поскольку о ней много говорят, ставят по ней пьесы и вырывают из нее цитаты, очень сложно обсуждать качество этого произведения.
Роман Лейбов: Михаил, принято. Хорошо, не через 150 лет, через сколько-то. Давайте посмотрим, где будет «Мятная сказка», а где будет Фет. Одни зверьки мечут очень много икры и широко размножаются, а другие выводят мало долгоживущих детенышей. Очевидно, что Фет долгоживущих детенышей вывел. Не все стихотворения Фета долгоживущие, но они друг друга поддерживают.
Олег Лекманов: Я хотел сказать по поводу зверьков. Алексей Кубрик в чате напомнил, что рояль из этого стихотворения соединяется с фетовскими же строками: «С писком, визгом пляшут крысы в худо запертом рояле».
Роман Лейбов: Конечно, двойная фетовская реминисценция. Из варианта стихотворения «Непогода — осень — куришь», которое мы сперва хотели разбирать, но сочли недостаточно каноничным.
Никита Карбасов: Во-первых, хочу сказать огромное спасибо за приглашение, а также за введение, в котором объяснялась популярность этого стихотворения. Я не могу сказать, что для меня это текст, который не требует представления, спасибо.
А во-вторых, Фету всегда как-то очень не везло — как в жизни, так и после смерти. Например, когда я пытался возобновить свои знания о Фете, то наткнулся на статью Достоевского, который вопрошает: «зачем Фет, если Лиссабон уничтожен?». Или когда я решил спросить однокурсников, что они думают о Фете, они ответили, что «это что-то связанное со школой и природой». Фет — не Бродский, которого все обсуждают, на его стихи не пишут рэп и не составляют синтонов. Процитирую один текст:
«Волка кормят ноги, меня — женщины из буфета
Я не прощу, ты уснула, когда я вслух читал тебе Фета
А теперь ещё врешь, что слушала, повтори мне хоть строчку, ну-ка
Там не было про грозу, это Тютчев, больше ни звука!»
Это текст современной группы про то, что общее представление о стихах Фета — что-то связанное с природой. И кто в этом виноват, я не знаю. Может быть, у Фета какой-то особый путь и ему всегда надо отстаивать свое место и право на существование. Может быть, дело в школьной программе, где сначала с ним знакомятся в начальной школе, когда говорят о природе, а потом поверхностно проходят в средней школе, поэтому на него не остается времени.
Когда мы его читали в школе, он вызвал у меня мощный резонанс. И еще Катулл. Я пытался понять почему: в стихотворении все очень жизненно, неуловимо, про людей и без примеси? Затем я спросил себя: почему именно это стихотворение? Меня больше всего заинтересовал звук, про который уже говорили. Он все еще переливается, «струны в нем дрожали» — это тоже описание звука, «как и сердца» — метафора через звук, а «ты пела до зари, что ты одна — любовь...» — это переход от описания звука к его содержанию, что очень здорово. И все это что-то метафизическое, я не могу сказать по-другому.
 Мне очень нравится, как звуком выделяется «она». Лирический герой звуков почти не издает, только тихо плачет. А она и поет, и рыдает — она очень громкая. Почему поэзия Фета еще может трогать? Только потому, что он про какую-то трепетную нежность, про возвышенную душу, и все эти звуки и природа — про отношения людей.
Мне очень нравится, как звуком выделяется «она». Лирический герой звуков почти не издает, только тихо плачет. А она и поет, и рыдает — она очень громкая. Почему поэзия Фета еще может трогать? Только потому, что он про какую-то трепетную нежность, про возвышенную душу, и все эти звуки и природа — про отношения людей.
Возможно, Фету еще повезет, потому что сейчас он не пользуется большой популярностью. Но пока будут живы люди, пока между ними будут отношения, которые нуждаются в описании, Фет может пригодиться со своим невозможным умением запихать целый роман в несколько строчек, со всем этим воздушным, для чего мне не подобрать слов.
Но почему Фет до сих пор трогает именно меня? В конце концов я понял, что дело в нем самом. Фету, как никому другому из писателей и поэтов, нужен читатель, нужен сочувствующий человек... Возможно, подключение происходит только потому, что Фет как-то его запрограммировал в своих текстах.
Олег Лекманов: Пока, кроме прекрасного чтения, мы ничего не слышали от Всеволода Емелина.
Всеволод Емелин: Все сказали уже до меня. Михаил задал, конечно, очень интересную тему. Мне бы хотелось ему сказать, что у меня, скажем, есть определенные субъективные критерии качества поэзии. Это по поводу того, что прошло 150 лет — у Фета в стихотворении есть преувеличенные чувства, которые сейчас считаются пошлостью: «рыдала до рассвета» и тому подобное, но каждому нормальному человеку свойственно немного пошлости. Очень интересно, что в результате из фетовского романса выросли все эти пародийные песни: «И мне хотелося без шума и без драки / Тебя поднять и треснуть об пенек» — если в цензурном варианте. Я пел ее в конце 1960-х, а в начале 1980-х ее пел мой сын, когда учился во втором классе. Казалось бы, где Гайдар и где Фет? Однако в «Судьбе барабанщика» цитируется стихотворение «Облаком волнистым / Пыль встает вдали» Об Ильфе и Петрове уже говорили, но есть еще кое-что: огромное количество читателей и кинозрителей запомнили, как Остап Бендер приходит к Кисе Воробьянинову и говорит не что-нибудь, а: «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по чему-то там затрепетало...».
Я веду к тому, что русский шансон, вероятно, вырос из всего этого — из преувеличенных чувств, из трансгрессивного повторения глагольных рифм, из этой неопрятности и апелляции к простым человеческим чувствам. А русский шансон живет и процветает. Это трудно, но я бы на месте филологов попытался провести параллель между «Луной был полон сад» и «Владимирским централом». (Смеются) При желании это, я думаю, можно организовать.
Олег Лекманов: Есть еще один вопрос, который я обратил бы к Леа: «Не услышал, чтобы говорили про восклицательный знак в последнем стихе. Почему?» Леа, как ты думаешь, почему все кончается стихом с восклицательным знаком?
Роман Лейбов: Это очень хороший вопрос, да.
Леа Пильд: Да, в этом стихотворении это центральное противоречие: когда он слушает, а она поет, то она «изнемогает в слезах», а ему хочется над ней плакать. С одной стороны, это переживание высшей полноты жизни, любви и приобщения к музыке как к божественному началу; с другой — с самого начала понятно, что все это неосуществимо. На этом все и строится. Поэтому восклицательный знак. Можно только веровать, можно обретать бессмертие в музыке, но соединения не будет, потому что оно возможно только тогда, когда герой слушает.
Роман Лейбов: Еще два слова. Мы выбираем стихи, по-разному поворачивая тему. В этот раз мы выбрали Фета, но не то, что нам хотелось... Мы решили повернуть в сторону большей популярности, большей напевности и так далее. А с Тютчевым, который будет в следующий вторник, мы пошли по другому пути. Есть канон «песенного» Тютчева: «Тютчев под балалайку» или «под гитару» — «Я встретил вас, и все былое...». Есть канон Тютчева-«патриота». Есть канон Тютчева-«пейзажиста». А мы пошли по пути философическому, поэтому у нас будет стихотворение «Silentium!».