«Тот, кто сегодня защищает советское прошлое, автоматически защищает сталинизм»
Интервью с филологом и историком культуры Евгением Добренко
— В предисловии к «Позднему сталинизму» сказано, что этот двухтомник — попытка написать критическую биографию эпохи. Что это за жанр?
— Критическая биография — исследовательский жанр, а если биографией занимается писатель, то это жанр литературоведческий, но он может быть и музыковедческим и вообще каким угодно. В любом случае, главное — это сочетание исторического нарратива и интерпретации. Когда вы беретесь за биографию писателя, вас интересует не только его личная жизнь, но и его творческая биография. Писатель главным образом интересен нам тем, что он написал. Проблема традиционной биографии жзловского типа состоит в том, что это не материал для литературоведа или историка искусства, которые будут анализировать тексты или картины, — это биография, рассказывающая о жизни человека. Отчасти мы привыкли к такому разделению, но его нельзя назвать искусственным — оно отражает профессиональные ограничения, с которыми мы имеем дело в нашей специальности. Проблема в том, что историк, который берется описывать свой материал, очень часто абсолютно не готов к анализу текста, у него просто нет нужных навыков. С другой стороны, все находящееся за пределами текста филологам кажется некой идеологией, то есть тем, что недостойно серьезного ученого. Поэтому получается так, что самое интересное проваливается в междисциплинарную щель. Для многих филологов изучение тех сюжетов, которые описаны в моей книге, остается святотатством. Для них само словосочетание «сталинская культура» — оксюморон, потому что они абсолютно убеждены, что сталинизм и культура — разные вещи. Есть высокая культура, которой должен заниматься филолог или искусствовед, а есть масскульт, которым должны заниматься культурологи. Этот дисциплинарный разлом приводит к тому, что мы искусственно разделяем то, что неразделимо. При этом мы очень любим говорить об интердисциплинарности, о том, что надо создавать целостную картину. На самом же деле целостной картины не выходит — выходит раздробленная. Моя задача состояла в том, чтобы, помимо работы над сюжетом самой книги, решить еще и дисциплинарную задачу, которую я сформулировал в метафоре «критическая биография эпохи». Такой биографии прежде не существовало, и я написал книгу о позднем сталинизме, я хорошо знаю этот материал, потому что сталинской культурой занимаюсь почти всю жизнь. По целому ряду причин именно позднесталинская эпоха оказалась за бортом общеисторического интереса. Одной из моих задач было восполнить этот пробел.
— В книге вы анализируете разные виды искусства: музыку, кино, литературу. Для этого требуется разный инструментарий, а можно ли говорить о каком-то едином принципе анализа всего этого обширного материала?
— Здесь нет единого принципа анализа, потому что материал слишком разный: от дневников до научно-популярной литературы, от оперы до архитектуры, от живописи до театра. Понятно, что подходы к анализу везде разные. Общее — это принцип отбора произведений и разный фокус в каждой главе, который связан с тем, что там имеются разные модусы. Что касается отбора произведений, то я руководствовался принципом обращения к каноническим текстам там, где это было необходимо: если речь идет о постановлении ЦК «О кинофильме „Большая жизнь”», то невозможно не говорить об Эйзенштейне, или если речь идет о постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда” и „Ленинград”», то нельзя не сказать об Ахматовой и Зощенко. Там нет другого выхода, поэтому ты говоришь об авторах, находящихся в центрe русского литературного или киноканона. Но сам принцип и замысел книги состояли в том, чтобы отойти от канона и брать неочевидное. Когда речь идет о сталинизме, то в голове у всех не поздний сталинизм, а «Большой террор», «коллективизация» и «индустриализация», то есть 1930-е годы. Мало кто вспоминает о послевоенной эпохе. То же самое связано и с выбором текстов. Да, я рассматриваю сталинские высотки в контексте нового историзма, который развивался в позднесталинскую эпоху, но вообще я беру тексты, об авторах которых многие и не слышали, а между тем эти авторы читались, эти тексты издавались миллионными тиражами. Сегодня трудно в это поверить, но это так. Мне важно было обращаться к текстам, которые находятся вне литературного или киноканона, к периферийным текстам.
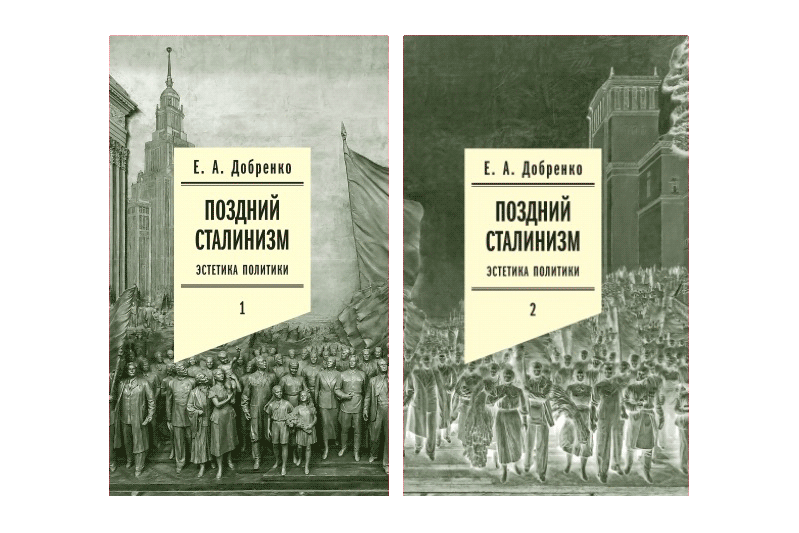 — А почему поздний сталинизм вытеснили 1930-е годы?
— А почему поздний сталинизм вытеснили 1930-е годы?
— Дело в том, что история, к счастью, не состоит из одних лишь катаклизмов. Она состоит из разных периодов и эпох, и одни из них наполнены множеством событий, а другие протекают в каком-то безвременье. Такого безвременья было много в русской истории XIX века, а в XX веке такое впервые случилось в позднесталинскую эпоху. Так произошло потому, что ХХ век начался с первой русской революции, потом были столыпинские реформы, затронувшие миллионы людей, потом Первая мировая война, еще две революции, Гражданская война, чудовищная по своему размаху, 1920-е годы, коллективизация, Большой террор и — как кульминация — Вторая мировая. Надо помнить, что во время войны была разрушена самая индустриально развитая часть страны, погибли целые поколения людей — это был страшный катаклизм. И вот после всех этих бурь наступила депрессия в природном значении этого слова. Моя основная идея, которую сформулировали еще представители школы «Анналов», состоит в том, что главное в истории протекает именно тогда, когда ничего не происходит, а не во время катаклизмов. То есть меняется что-то глубоко и фундаментально не на уровне очевидных коллизий, а когда ничего не происходит. То, что устаканилось в такое время, сдвинуть потом невозможно. Такое устаканивание как раз происходило в позднесталинскую эпоху. Это одна из причин, почему мне эта эпоха интересна, и это же объясняет, почему большинству историков она казалась менее интересной: там нет эффектности эпохи террора или эпохи оттепели.
— Вы используете непривычное для подобных исследований понятие «модус», каково его значение?
— Моя идея, лежащая в основе этого проекта, заявлена в подзаголовке — «Эстетика политики». Что такое сфера политического? В предисловии, ссылаясь на переведенные в России работы Анкерсмита, я говорю, что мы даже не всегда понимаем, насколько глубоко эстетична по своей природе сама сфера политики. Политическое выводится из сферы репрезентации, символизма. В сущности, политика вся основана на идее репрезентации: это можно понять, если посмотреть на институции, где президент является гарантом конституции, а парламент репрезентирует население. То есть это всё система репрезентации и делегирования полномочий, которая полна символизма, и через это она связана со сферой эстетического, которая и регулирует сферу символического. Я обратил внимание на то, что советское эстетическое, определявшее советскую культуру в сталинскую эпоху, то есть соцреализм, порождало определенные модусы. Сфера советского эстетического определяется параметрами «партийность», «народность», «революционный романтизм», «изображение жизни в формах самой жизни», «исторический оптимизм» и т. д. А сфера политического структурирована точно так же, как и область эстетического. Следовательно, существует какая-то взаимосвязь между этими двумя сферами — эстетической (соцреализм и его модусы) и политической (репрезентация, символизация). Последняя очень широка, и сфера культурной политики очень важна, потому что задача власти всегда состоит в том, чтобы постоянно себя демонстрировать и подтверждать, — в этом и состоит отправление власти. При составлении книги я двигался хронологически по основным политико-идеологическим акциям, которые предпринимались властью в это время — начиная с войны и заканчивая смертью Сталина. Традиционный подход такой: это все ждановщина, репрессивные кампании и все одно и то же. На самом деле это все не одно и то же, там везде были разные сюжеты, разная драматургия, разные цели и задачи, разные движущие силы, которые исходили от Сталина, от логики системы, от борьбы за власть между представителями элиты и так далее. Если мы внимательно почитаем постановления, проследим за дискуссиями и кампаниями, то увидим разные идеологические и политические задачи, которые формулируются соцреалистическими категориями. Когда шла кампания 1948 года об опере «Великая дружба», в центре был модус народности, осуждался формализм музыки Шостаковича и Прокофьева. Когда шла кампания, связанная с генетикой, в центре которой был Лысенко, то там утверждалось то, что в категориях соцреалистической эстетики называли революционным романтизмом. Сама идея, согласно которой не существует наследственности, а по наследству передаются приобретенные свойства, — это романтическая идея. Лингвистическая кампания, в которой Сталин выступал против революционных фантазий Марра, наоборот, утверждала реализм. Многие из этих кампаний словно находятся в интенсивном диалоге, будто они противоречат друг другу, но на самом деле они друг друга дополняют, точно так же, как в определении соцреализма сочетались несоединимые вещи (отражение правды жизни, но в ее революционном развитии). Эти противоположности были заложены в самой эстетической доктрине, и мы видим, что они лежали в основании практически всех идеологических кампаний эпохи. Оказывается, что политика двигалась по рельсам эстетики. Эти рельсы, модусы реализуются в определенных тропах. Например, я показываю, как происходит переход от метафоры к метонимии в культуре. Без этого важного перехода невозможно понять, почему сталинское кино 1930-х, посвященное истории, основывалось на идее аллегории: мы смотрим фильм про Петра I, который преобразовывает Россию, но за ним мы видим Сталина, который преобразовывает СССР. После войны на смену «Ивану Грозному» приходят картины Чиаурели, который перестает играть в метафоры, а просто ставит на место Петра I Сталина в «Клятве». Это совершенно другой модус, это уже не метафора — это метонимия, замена объекта. Такие вещи мне кажутся особенно интересными и важными, поскольку они работают на глубинном уровне сознания (как индивидуального, так и массового). Очень часто историки их вообще не замечают, потому что они погружены в густой фактаж. Когда читаешь работы историков, понимаешь, что они часто за деревьями не видят леса. Мне этот лес очень интересен.
 — Можно ли сказать, что в позднесталинскую эпоху какой-то вид искусства был важнее остальных?
— Можно ли сказать, что в позднесталинскую эпоху какой-то вид искусства был важнее остальных?
— Тогда в приоритете были те виды искусства, которые легче всего подлежали прямому контролю и цензуре, и те искусства, в которых идеологический и политический месседж был прямо заявлен. И, конечно, они должны были обладать массовостью. Не стоит забывать, что русская культура до недавнего времени оставалась литературоцентричной, поэтому понятно, что литература была важнее остальных видов искусства. Слово легче всего цензурировать, оно имеет прямой и переносный смысл, в слове можно передать все, что нельзя передать в той же мере развернуто и доступно в музыке и живописи, например. Литература была самой массовой. Все-таки это эпоха, когда даже радио далеко не везде было, не говоря уже о телевидении. Об этом часто забывают сейчас, говоря, что искусство не так уж важно. Да, сегодня оно не так уж важно, потому что есть другие медиальные формы воздействия на население. А тогда оно было чрезвычайно важно. Кроме того, оно было самым массовым, потому что литературу учили в школе, а это значит, что каждый советский человек проходил через обработку литературой. Он мог жить в глухой деревне и никогда не видеть московского метро, но роман Фадеева или роман Островского он читал. Второе — это кино. Кино было самым популярным искусством и контролировалось Сталиным полностью. Эти два вида искусства были впереди, поэтому в книге им уделяется особенное внимание.
— С одной стороны, вы пишете о лауреате пяти Сталинских премий Михаиле Чиаурели, с другой стороны — про «Антиформалистический раёк» Шостаковича, который впервые исполнили уже после его смерти. Как соотносятся фигуры и явления столь разных масштабов?
— Да, в России «Антиформалистический раёк» исполнили уже после смерти Шостаковича, в перестроечное время. Это вечный вопрос о границе между высокой и низкой культурой. На самом деле в самой культуре это не ощущается как разрыв. Синхрония внутри культуры постоянно действует, часто люди внутри культуры просто не знают, что станет высоким. Это как в анекдоте про древних греков, которые не знали, что они древние. То же самое с высокой культурой: вы можете предполагать, что Эйзенштейн при жизни — это уже живая классика, но жизнь продолжается, и ничто не становится великим в том смысле, в каком принято рассматривать классику. Такое дистанцирование действительно есть только в исследовательской традиции, а не внутри культуры. В реальности все происходит по-другому. Если говорить о русской литературе, то чем занимаются филологи? Они пишут о Зощенко и Ахматовой. А кто будет писать о Сергее Михалкове? А этим пусть занимаются культурологи — филолог не должен заниматься, извините за выражение, Михалковым. Эйзенштейном должно заниматься высоколобое киноведение, а Пырьевым и Чиаурели пусть занимаются какие-нибудь культурологи опять. При этом Шостакович и Прокофьев были рекордсменами по сталинским премиям: у Шостаковича было пять, а у Прокофьева — шесть премий. Это люди, составлявшие часть истеблишмента сталинской культуры. Эйзенштейн, Довженко, Пудовкин — великие режиссеры русского и мирового кино, и это тоже часть сталинского истеблишмента. То есть внутри культуры все переплеталось и взаимодействовало — я не говорю, что жило в мире, но на уровне потребления советский человек слушал по радио Шостаковича и Дунаевского, и у него при этом ничего не зашкаливало. А у музыковеда зашкаливает. Этот дисциплинарный частокол определяет расхождение между высоким и низким, а внутри культуры все намного сложнее, с одной стороны, и намного проще — с другой.
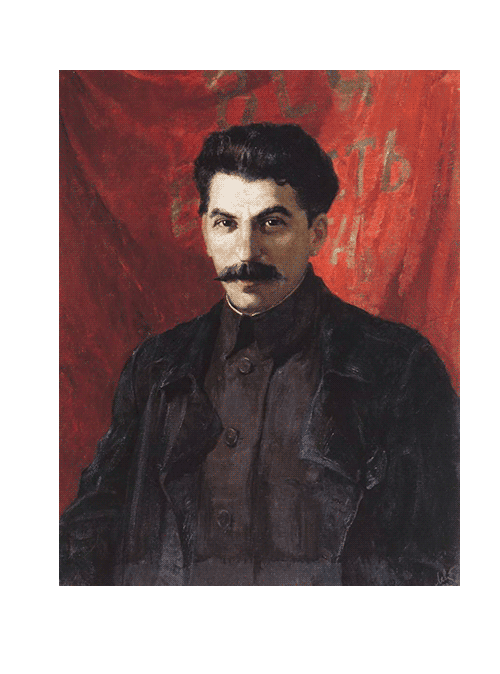 — Такое взаимодействие было, на ваш взгляд, плодотворным?
— Такое взаимодействие было, на ваш взгляд, плодотворным?
— Да, и интересным. Отчасти я именно поэтому хотел показать, что кампанию в связи с оперой «Великая дружба» проводили для утверждения принципа народности, то есть простого и доступного населению искусства, а не высоколобой музыки, основанной на диссонансах, которые Жданову напоминали работу бетономешалки или бормашины. Проблема состояла в том, чтобы сделать искусство доступным, но, когда кампания прошла, встала задача подумать о том, как этот политический месседж сделать понятным для самого населения, которому глубоко плевать на внутрицеховые дебаты: власть на стороне «доступного народу» искусства. Можно просто напечатать стенограмму этого обсуждения, но ее икто читать не будет. Шостакович почитал и создал «Антиформалистический раёк», но он не был адресован массовому потребителю. Если вы возьмете спектакль «Илья Головин» по пьесе Михалкова, фильм «Сказание о земле Сибирской» Пырьева и роман «Опера Снегина» Осипа Черного, то есть абсолютно чудовищные периферийные произведения, поймете, что тогда читалось, смотрелось и слушалось. Таких соцреалистических текстов, которые «разъясняли» и популяризировали партийную политику, было очень много, тем они и интересны, потому что показывают как сформулированное на уровне партийных директив всаживалось в головы людей. Человек получал все это в виде готового продукта, когда он шел в кинотеатр на Пырьева, в театр на Михалкова или когда читал роман Осипа Черного. Это одна из причин, почему мне кажется очень важным читать и рассматривать эти тексты, потому что, если мы их не будем читать — а их никто не читает, потому что они плохие, — мы не сможем понять, как и в каком виде эти идеологические месседжи доходили до массового сознания. Они доходили именно через художественные медиа, больше никак их донести было нельзя, потому что колхозник не будет читать стенограммы заседаний. Этим никто не занимался, а мне кажется, что это важно.
— У вас встречается словосочетание «классически-советская система власти», о чем идет речь?
— Об этом пишут многие политические историки. Они сходятся во мнении, что позднесталинская структура и была той системой власти, которую хотел построить Сталин. В 1920-е годы ее не было, потому что шла борьба за власть, Сталину приходилось считаться с другими. В 1930-е годы во время коллективизации, которая была формой гражданской войны, Сталин воевал с крестьянами. Потом было абсолютное безумие Большого террора с 1936-го по 1938 год, причем в это время система сталинской власти не была стабильной, не была идеальной. Про военный период я вообще не говорю, потому что это всегда надрыв и потеря контроля. Только после войны эта система наконец приобрела законченный вид, то есть то, что я и называю «классически-советской системой». То, что было потом, при Хрущеве, при Брежневе, даже при Горбачеве, — это попытка реформировать созданную до них структуру. Поздний сталинизм, по сути, не закончился. По большому счету, он существует и сейчас в России, поэтому Сталин является самым популярным деятелем русской истории. Ленин ничего не успел создать, а Сталин создал советское государство и советскую нацию. Все остальное было реформами, попытками стабилизировать или законсервировать, как это пытались сделать Брежнев и Суслов, либерализовать, как это было при Хрущеве или Горбачеве. Все равно после Сталина субъектом и объектом политики были советское государство и советская нация — две вещи, созданные Сталиным. Сталин — отец советской нации, нравится это нам или нет. Тот, кто сегодня защищает советское прошлое, автоматически защищает сталинизм.
— Один из разделов вашей книги называется «Идейность как прием». Объясните, пожалуйста, это название.
— Речь идет о том, что идейность — один из принципов соцреализма. Мы знаем их: партийность, народность, идейность и так далее. Народность как прием — это парафраз знаменитой формулы формалистов «искусство как прием». Так же можно сказать: народность как прием, историзм как прием и так далее. Эти эстетические модусы являются приемами прямого политического действия. Это одна из важных для меня идей: прямое политическое действие осуществляется через эти модусы, приемы. Формула «искусство как прием» говорит нам о том, что искусство — это не священный глагол или наитие, а работа определенных механизмов, воздействующих на потребителей искусства. То же самое и с политикой. Люди думают, что политика упирается в злую волю Сталина. Понятно, что она не была доброй, но важно на этом не останавливаться, а попытаться понять, что объясняют нам произведенные его эпохой тексты. Чем интересны именно искусство и сфера эстетического? То, что нам рассказывают историки, мы находим в архивах, мы можем восстановить факты, но только искусство дает нам целостный слепок атмосферы, в которой люди жили, понимание логики, в которой они мыслили. Оно концептуально, мировоззренчески объемно. Архивный документ отвечает на вопрос «что было», художественный текст — на вопрос «что значило». Художественный текст несет в себе целостность — даже текст плохого качества. И если вы не умеете считывать эту информацию или отказываетесь читать плохие тексты, вы не поймете того, как люди думали, как они видели мир, то есть не поймете эпоху в ее целостности.