«Толстой сопротивлялся русской хтоничности»
Обсуждение книги Льва Толстого «Что такое искусство?»
Дмитрий Потемкин: Сегодня мы поговорим о только что вышедшей в издательстве V-A-C Press книге Льва Толстого «Что такое искусство» и о его эстетических взглядах. Работа над этим текстом длилась пятнадцать лет, впервые он был издан в 1897 году — в свое время Толстой прочел совершенно невообразимое количество эстетических трактатов, но ни один из них его не удовлетворил, поэтому он почувствовал необходимость построить собственную оригинальную эстетическую систему. Интересно, что в ней новаторские, можно сказать, авангардные идеи тесно переплетены с тем, что на первый взгляд может показаться консерватизмом, дидактизмом или даже, как говорит в предисловии Олег Аронсон, «педантичным брюзжанием».
Иван Аксенов: Олег Владимирович, расскажите пожалуйста о своей личной истории взаимоотношений с Толстым — например, вы упоминали о том, что служили в армии в Ясной Поляне.
Олег Аронсон: Толстого на моем горизонте не было, пока мне не заказали текст про «Воскресение» братьев Тавиани. Они сделали экранизацию в начале 2000-х, я тогда писал тексты о теории экранизации и решил освежить в памяти этот роман. В детстве он мне не очень нравился. Была какая-то иерархия, где есть «Война и мир», «Анна Каренина», и «Воскресение» в ней считалось неудачным романом. Но когда я начал его читать, был ошарашен, насколько это современное произведение, в отличие от упомянутых выше, они полностью остались в XIX веке. Это настоящий критический социальный роман, написанный жестким языком и с совершенно другой темой, нежели сусальное открытие Бога. Тогда я стал читать позднего Толстого, например, «Фальшивый купон» — одно из моих любимых произведений, мне довелось о нем размышлять и писать в связи с экранизацией Робера Брессона, все это было связано с кинематографом.
Потом я как-то в разговоре с Фредриком Джеймисоном поделился своими впечатлениями от «Воскресения», соображениями о Толстом как социальном практике и сказал, что хочу перечитать его трактат «Что такое искусство?». Джеймисон загорелся, и позднее, как подарок ему, я подготовил доклад об этой работе для одной конференции. Я внимательно прочел текст Толстого и был поражен тем, как совершенно неверно его интерпретировал, например, Выготский при всей своей хитроумности, и тем, как вообще воспринимают этот трактат. Для меня сразу стало очевидным, что заражение, о котором пишет Толстой, — не просто один из способов интерпретации искусства, это введение иной логики в сам принцип действия искусства. Такой же слом логики происходит, когда меняются отношения человека и болезни и начинается массовая эпидемия. Толстой фактически предугадывает место искусства в массовом обществе, а это для меня один из ключевых вопросов. Где место искусства и какова его функция в массовом обществе? На Толстого обижаются за жесткую и ироничную критику Шекспира, Вагнера, Бодлера, но ведь все они стали представителями массовой культуры. Вспомните, как он издевается над любителями поздних сонат Бетховена — там тоже работают диспозитивы общего вкуса. А что в таком случае не может быть оприходовано массовой культурой?
Всякое индивидуальное восприятие искусства по Толстому оказывается нерабочим, хотя он пишет в русле психологии XIX века, и может создаться ощущение, что он говорит о чувствах того или иного зрителя, в частности самого себя, но у него постоянно заходит речь о том, что можно назвать сопричастностью в восприятии искусства и в действии искусства. Сопричастность, которая касается не того, что мы приходим вместе в кинозал или театр, — она в том, что мы участвуем в искусстве. Его характерный пример — крестьянское пение: если ты не участвуешь в нем, то и искусством оно не является. Этот важный принцип ставит искусство на место национальной религиозной евхаристии. Только искусство, которое делает нас сопричастными в прямом коллективном действии, и может называться искусством, а другого просто нет.
ИА: А как можно на конкретике показать работу идей Толстого? Для чего они могут пригодиться — для создания нового искусства, для интерпретации старого?
ОА: Текст Толстого очень важный, потому что он разоблачает искусство как отдельную ценность, как некоторую систему внутреннего почитания объектов искусства. Нам до сих пор очень трудно преодолеть эту границу, к тому же сегодня искусство, помимо ценности, стало важным экономическим лейблом. То, что идет под знаком искусства, сразу включается в экономические отношения, поэтому современное искусство все время сохраняет этот лейбл, хотя давно уже работает в другом режиме. Это одновременно и объект, и инвестиция. Мы живем в мире, где самой жизнью переосмысливаются вещи, которые в XIX веке тяжело переосмысливались — например, ценность труда была необсуждаемой, ее поставил под сомнение марксизм. Труд — бог атеистического мира, которому молятся и экономика, и политика, а сегодня он становится все более иллюзорно эффективным, и искусство выступает как то, что с трудом не связано. Вот для Канта эта связь еще сохранялась, для него сделанность вещи была важна. А для Толстого если и есть какой-то труд в будущем, который возможен при общей солидарности и сопричастности людей, то это искусство, которое превратилось из ценности в средство коммуникации, в позитивный заражающий элемент, в то, что передает энергию прямого действия через коллективы людей. Это можно воспринимать как утопию, но она все менее утопична и все более соответствует проектам современного социального искусства, которое озабочено не тем, чтобы быть искусством, а тем, чтобы совершать какое-то социальное действие.
ИА: Тогда идеальное искусство — это рок-музыка, которая только передает аффекты и больше ничем не занимается.
ОА: Толстому она может быть и не понравилась бы, но в каком-то смысле рок-музыка в ее лучшие годы, рэп-музыка и вирусная музыка сетей так или иначе ближе к тому, что думал об искусстве Лев Николаевич, чем все остальное.
ДП: Можно ли читать Толстого как протомедиатеоретика?
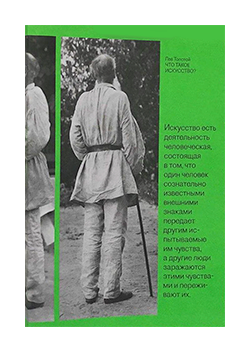 ОА: Несомненно, у него даже в 1904 году вышла работа «О Шекспире и о драме», где он сопоставляет популярность Шекспира с успехом газетчиков в новостях. Это часть дискурсивных диапозитивов внутри общества: если человека за что-то похвалили и наращивается группа людей, его хвалящих, то он становится классиком вследствие медийного эффекта. В начале XX столетия Толстой был погружен в газетную культуру, он через газеты общался с властью — сажали редакторов, которые осмеливались его публиковать, а самого Толстого не трогали, и он все время выступал в защиту этих редакторов и продолжал писать тексты в газеты. Это огромные тиражи, это настоящая медийная популярность того времени.
ОА: Несомненно, у него даже в 1904 году вышла работа «О Шекспире и о драме», где он сопоставляет популярность Шекспира с успехом газетчиков в новостях. Это часть дискурсивных диапозитивов внутри общества: если человека за что-то похвалили и наращивается группа людей, его хвалящих, то он становится классиком вследствие медийного эффекта. В начале XX столетия Толстой был погружен в газетную культуру, он через газеты общался с властью — сажали редакторов, которые осмеливались его публиковать, а самого Толстого не трогали, и он все время выступал в защиту этих редакторов и продолжал писать тексты в газеты. Это огромные тиражи, это настоящая медийная популярность того времени.
ИА: Юрий Геннадьевич, теперь хотелось бы узнать о вашем личном пути к Толстому. Вы в последнее время стали одним из главных проводников его творчества в широкие массы, для которых это был забронзовевший музейный экспонат: на него можно посмотреть, повздыхать. Но оказалось, что в него можно вдохнуть жизнь силами одного главного редактора и одного сайта о литературе, а эффект получился весьма ощутимый.
Юрий Сапрыкин: Я родился в Тульской области, и поэтому Толстой для меня — это детство, это поездки в Ясную Поляну, это книжки из серии «Отчий край» Приокского книжного издательства с овалом на обложке. Это всё было неким привычным фоном жизни. Довольно долго я оставался в плену стереотипов: есть Толстой — великий художник и есть Толстой — очень странный и путаный мыслитель, и они не очень соединяются, это два разных периода и два разных человека. Только недавно я понял, что всё это время нас обманывали, ну или я сам себя обманывал: для Толстого, конечно, в высшей мере свойственно отрицание самого себя, постоянное самообновление, но никаких «разных Толстых», один из которых великий и могучий, а другой сам себе, и оба друг другу противоречат, — конечно же, не существует. «Исповедь» и «В чем моя вера» не менее интересны, чем «Анна Каренина», и написал их один и тот же человек, используя, в самом общем виде, один и тот же метод. И в художественных текстах, и в публицистике, и в религиозных трактатах Толстой выступает как универсальный аналитик и, если можно так сказать, срыватель покровов. Он пытается сокрушить идолов — в том смысле, в котором говорил об этом Фрэнсис Бэкон, «идолы» как общепринятые, принимаемые по умолчанию представления, он пытается проникнуть за этот покров всеобщих молчаливых договоренностей по тому или иному поводу — войны, морали, религии, семейного устройства — и увидеть простую суть явлений. В больших романах Толстой проделывает это как психолог: он проникает под поверхность социально обусловленных слов, действий, настроений, пытаясь добраться до истинных мотивов своих героев. В тексте «Что такое искусство?» он проделывает то же самое с общепринятыми представлениями о прекрасном и возвышенном, с эстетическими установками своего времени, с социальной функцией искусства и так далее. Но механизм аналитической операции примерно один и тот же.
Иван сделал мне большой и, наверное, незаслуженный комплимент относительно роли проекта «Полка» в популяризации Толстого. Моя роль достаточно скромна, но вообще в нынешнем времени происходит что-то такое, из-за чего вдруг Толстой оказался важен, причем не Толстой в вакууме, а какой-то новый Толстой, который сейчас заново открывается. Он уже не зеркало русской революции, не просто великий реалист, но, например, очень тонкий психолог. Многие люди вокруг меня читают Толстого как пособие по психологическим тонкостям и глубинам человеческой души. Именно поэтому стали интересны дневники: на них никто никогда не обращал внимания, они лежали в этих девяноста томах совершенно не прочитанные, а сейчас фразы из них превратились в мемы. Существуют целые телеграм-каналы, которые полностью состоят из фрагментов дневников Толстого. Его безжалостное самокопание в сочетании с недостижимым идеалом, какими-то KPI, которых он пытается достичь и никогда не достигает, производит трагикомический эффект, чрезвычайно близкий нашему времени.
Есть и другой Толстой, его время тоже приходит, и издание трактата «Что такое искусство?» — еще одно тому доказательство. Анархический Толстой, который смотрит на невидимые социальные установления, пронизывающие общество и культуру, как на нечто чуждое и неестественное, как на инструменты подавления. От них необходимо освободиться, чтобы приблизиться к истинной человеческой природе, освободиться. Стать собой — а не тем, что тебе навязала система. Довольно банально привязывать все к новостной повестке, но сейчас, когда вдруг происходит внезапная и никем не предвиденная перетряска общественного организма, интенция Толстого может оказаться очень важной. Давайте избавимся от всего, что нас порабощало, но чего мы прежде не замечали — такая операция сознания, которую он регулярно проделывал, очень хорошо ложится на настроения, витающие сегодня в воздухе.
ОА: Мне очень понравилось то, что сказал Юрий. В эпоху живого журнала я был подписан на жж Льва Николаевича — его автор выклевывал и публиковал по датам фрагменты дневников Толстого, поэтому я каждый день в середине двухтысячных читал их. Мы сегодня живем в такой ситуации, когда взаимоотношения Толстого и политики более актуальны, чем взаимоотношения с ней многих мыслителей XX века, которые пытаются осмыслить политику. Толстой дистанцировался от политики, но при этом не был аполитичен, он старался держаться подальше от того, что мы сейчас называем реальной политикой. В работе «Что такое искусство?» задолго до Фуко Толстой показывает, как власть осуществляется через корпоративные ценности ценителей сложного искусства. Слезы, которые порождает то или иное произведение, — это не наши слезы, нас заставляет плакать в определенные моменты работающая система власти. В этом смысле его идея непротивления злу остается непонятой. Непротивление Толстого — не смирение, а совсем другой режим, вроде того, что реализовывал Ганди в его Ахимсе. Это очень сложная и жестокая вещь, поскольку ненасилие Ганди требовало большого количества коллективных жертв.
ДП: У Нормана Финкельштейна есть книжка про Ганди с абсолютно такой же идеей: Ганди не был пацифистом, а его ненасилие — весьма радикальное и в каком-то смысле даже более насильственное. Ты идешь на пушки, а не просто смотришь на происходящее, где-то затаившись.
ОА: Ты не совершаешь агрессивных действий в адрес противника, но берешь на себя ответственность за тех, кто идет за тобой. Это гораздо более сложная этическая позиция, и Толстой сформулировал ее до Ганди: когда он стал публицистом и когда преследовали тех, кто его печатал, он фактически шел этим путем. Он все время слышал о жертвах, которые разделяют его взгляды, о толстовцах, которых преследуют. Толстой — один из самых актуальных авторов сегодня, и Юрий очень верно сказал, что и «Война и мир», и «Анна Каренина» предвещают его знаменитый этический поворот конца 1890-х годов.
ЮС: Хотелось бы еще вспомнить две недавно вышедшие книжки, уже прославленную книгу Андрея Зорина «Жизнь Льва Толстого», где все строится на этой идее единства Толстого в разные периоды и в разных его ипостасях, связанности всего толстовского творчества вокруг идей освобождения, одержимости смертью, одержимости сексом. И монографию Ирины Паперно «Кто, что я?», где она смотрит на Толстого как на предшественника модернистского письма, как на человека, который впервые пытался подробно записывать свои сновидения, поток сознания и все мысли, которые приходили ему в голову в течение дня, который работал с техниками письма, окончательно оформившимися через несколько десятилетий уже у Джойса и Пруста. Толстой как протомодернист, не только архаик и отрицатель всей цивилизации, но одновременно человек, идущий впереди этой цивилизации в своих эстетических экспериментах.
ИА: В связи с этим еще стоит упомянуть недавно переизданную книгу Эйхенбаума про молодого Толстого, про его эго-документы. Русская теория того времени хорошо ложилась на текст Толстого, он был важен для Шкловского и других авторов этого круга наравне с Маяковским и Хлебниковым, он стал настоящим испытательным полигоном для их новаторских идей. Книга «Молодой Толстой», по сути, о том, что дневники Толстого нет смысла читать как фиксацию опыта в голом виде: это постоянный эксперимент над своей самостью при помощи текстов, которые сейчас воспринимаются как мемы и нелепые попытки совладать с самим собой, со своим расписанием, но на самом деле это работа по пересборке самого себя. Насколько новаторской была практика Толстого, настолько новаторской была русская теория, переосмысляющая его работу, но все это почти не освоено современной культурой и нуждается в дальнейшем освещении. Количество всевозможного селфхелпа, коучей и других глубоко посредственных практик сегодня зашкаливает, но при этом есть куда более ценные образцы. Конечно, можно смеяться над Толстым, но так-то он много чего сделал, и более великих практиков нужно еще поискать. Можно бесконечно смеяться над нелепыми заметками из его дневников, но где он и где те, кто над ним смеется.
ДП: Мне кажется, что в размножении всяких коучей и людей, которые учат нас жизни, отчасти есть вина и интеллектуалов, которые эту составляющую из искусства и философии к концу XX века почти вывели. Считается, что неприлично интеллектуалу заботиться о душевной гигиене. Мы имеем такое количество коучей и прочих глубоко посредственных людей именно потому, что «непосредственные» люди такими вопросами заниматься не хотят.
ИА: В отличие от Толстого, который только и делал, что учил всех жить. Это до сих пор кажется несколько комичным и навязчивым, можно снова вспомнить ту цитату из Олега Владимировича о педантичном брюзжании, но ведь на самом деле он все правильно делал, особенно если учитывать контекст, о том, кто были его подопечные — крестьяне и их дети. Толстому действительно нужно было брюзжать и объяснять им, как не подавиться косточкой сливовой.
ОА: Никто не отберет у Толстого величия, и мы сейчас заслуженно поем ему осанну, но все же в нем было определенное кокетство, этого нельзя не видеть. И в дневниках, когда читаешь их, зная некоторые факты из его биографии, и это его обожествление крестьянской общины и в то же время сосуществование с этими бедными крестьянами в Ясной Поляне, и в его сексуальной жизни. Там много всего намешано, обожествлять его не стоит, но интересно, что Толстой, русский писатель и аристократ, в определенном смысле был выдающимся европейцем, несмотря на свою бороду и хождение за сохой. Работу «Что такое искусство?» он пишет как настоящий ученый, посвящает целую главу исследованию источников. Что бы сделал на его месте Достоевский? Никогда бы у него такого не было. Толстой сопротивлялся русской хтоничности. В каком-то смысле это очень важная вещь, потому что формалисты тоже были европейцами, а Бахтин нет. Поэтому у Бахтина полтора текста о Толстом, а все остальное о Достоевском. Бахтин — настоящий исследователь русской хтони, он изучал ее через архаику, карнавал и так далее. Это проходит и через его беседы с Дувакиным, и даже его ученики, Кожинов и Палиевский, тоже тянулись к хтони.
ЮС: Описание Вагнера у Толстого, например, очень смешное.
ДП: Да, во многом ради такого мы и хотели издать эту книгу. У Толстого есть феноменальная фраза про балет, была даже мысль вынести ее на обложку: «Балет же, в котором полуобнаженные женщины делают сладострастные движения, переплетаются в разные чувственные гирлянды, есть прямо развратное представление».
ОА: У Толстого разврат очень важная тема, это одно из его любимых слов, достаточно вспомнить, как он в «Крейцеровой сонате» говорит о женщинах в трико. Его это явно заботило, и это форма сопротивления: Толстой знал, что такое чувственное удовольствие от секса и от искусства, он их приравнивал друг к другу. Поэтому любое искусство, которое доставляет нам чувственное удовольствие, для Толстого развратно. Любое.
ДП: Вообще подобные его выпады напоминают современный стендап, и если кто-то не захочет читать книгу целиком, то уже одна только глава, посвященная разбору Вагнера, будет бальзамом на душу любому культурному человеку.
ИА: Думаю, достаточно будет даже пересказа сюжета вагнеровской трилогии. Я орал в голос, когда читал про всех этих валькирий и карликов. Кто попало так написать, конечно, не сможет.