Тиран и творцы: как говорили с властью Кедрин и Вознесенский
Марк Альтшуллер — о сравнительном прочтении баллады «Зодчие» и поэмы «Мастера»
В этом году исполняется 75 лет со дня смерти Дмитрия Кедрина (1907—1945) и десять лет со дня смерти Андрея Вознесенского (1933—2010). Наверное, уместно будет отметить этот печальный юбилей обращением к двум замечательным и достаточно мрачным текстам двух поэтов, талантливых и ярких выразителей своей эпохи.
В 1938 году в журнале «Красная новь» (март) было опубликовано одно из лучших стихотворений Дмитрия Кедрина — «Зодчие». В основу баллады положена легенда о строителях храма Василия Блаженного Барме и Постнике, ослепленных по приказу Ивана Грозного, чтобы лучшего храма они не смогли построить. Легенда не имеет под собой никаких исторических оснований. Строители (или это имя одного человека — Постник Барма) работали и после построения храма. Однако эта легенда выразительно показывает народное отношение к памяти грозного царя. После выхода кедринской баллады легенда получила особенно широкое распространение.
Появление стихотворения о самоуправстве владыки, о расправе власти над деятелями искусства было очень значимым явлением в 1938 году, в разгар сталинского террора. Стихи были смелыми и достаточно характерными для творчества Кедрина (существует подозрение в причастности чекистов к его трагической гибели в 1945 году). Советскую власть он явно не любил. В 1929 году сидел в тюрьме за «недоносительство» на отца своего друга. Решительно отказался стать «сексотом» (секретным сотрудником, осведомителем).
В том же 1938 году в журнале «Новый мир» была напечатана «Песня про Алену-старицу» Кедрина, которая заканчивались страшными стихами:
Все звери спят.
Все птицы спят,
Одни дьяки
Людей казнят.
Можно только удивляться, как подобные строки появились в то время. (Может быть, цензор испугался собственных ассоциаций.)
С иронией и брезгливостью изображал Кедрин властителей. Так, в большой поэме (повести в стихах) «Конь» изображен жалкий, скупой, мелочный и трусливый царь Федор Иванович, сын Ивана Грозного. Подарив зодчему траченную молью хорьковую шубу и услышав в ответ грубое: «Хорек зело вонючий зверь», царь, «запахивая шубу, / Присел и шибко юркнул в дверь».
С изображением в «Зодчих» Ивана Грозного дело обстоит сложно. Это, конечно, не апология царя, но и не то осуждение самовластья, которое мы встречаем в других стихах Кедрина. Если признать, что глава государства (царь, диктатор, генсек, президент и пр.) олицетворяет собой само государство, если допустить, что это государство важнее составляющих его личностей, то Иван здесь не только страшный убийца. Он не лишен некоторого величия именно как носитель и воплощение государственной идеи:
 Как побил государь
Как побил государь
Золотую Орду под Казанью,
Указал на подворье свое
Приходить мастерам.
И велел благодетель...
<...>
В память оной победы
Да выстроят каменный храм.
Вчитаемся в главные центральные строки баллады, когда зодчие сказали царю, что могут сделать другую церковь еще «пригожей и благолепнее» (курсив мой):
И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова,
Чтобы в Суздальских землях
И землях Рязанских
И прочих
Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова!
Завершилось строительство великолепного, уникального по красоте храма. И, отмечая явление человечеству чуда искусства, свершилось страшное злодеяние: погублены создатели этой красоты. Злодейство совершено во имя молоха-государства. Это сделано, чтобы нигде более, только в Московском царстве, которым правит великий, могучий и грозный государь, в столице его Москве, стояла самая красивая на земле церковь.
Кедрин, конечно, нисколько не оправдывает царственного злодея, но все же некоторое величие в жестокости, вызванной государственной необходимостью, в этих стихах чувствуется. И здесь автор сближается с народным (фольклорным) отношением к Ивану Грозному, воплощению сурового, но справедливого владыки. Это народное отношение к царю отметил еще Карамзин, с присущим ему талантом описавший деяния царственного изверга: «...добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти: стенания умолкли, жертвы истлели... доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-завоевателя, чтил в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл название мучителя, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой доныне именует его только Грозным... История злопамятнее народа!»
 И действительно, в знаменитом фольклорном сборнике Кирши Данилова, вышедшем в разгар работы Карамзина над «Историей государства Российского» (1804), мы найдем несколько известных исторических песен об Иване Грозном. В них этот царь изображается в основном с явной симпатией.
И действительно, в знаменитом фольклорном сборнике Кирши Данилова, вышедшем в разгар работы Карамзина над «Историей государства Российского» (1804), мы найдем несколько известных исторических песен об Иване Грозном. В них этот царь изображается в основном с явной симпатией.
Так, в песне «Мастрюк Темрюкович» царский шурин «молодой черкашенин» похваляется своею силой. Русские молодцы легко побеждают его, и довольный царь «жалует / Двух братцев родимыех. / Двух удалых Борисовичев». Песня эта, несомненно, повлияла на «Песню про купца Калашникова» (молодой опричник в ней — явно татарского происхождения и тоже похваляется своею силою).
У Лермонтова грозный царь изображен, как и в фольклоре, явно с положительными коннотациями. Он добр и одаривает Кирибеевича перстнем и ожерельем, одаривает молодую вдову и детей Калашникова, братьям позволяет «торговать безданно, беспошлинно». И, самое главное, казнь Калашникова в общем справедлива, ибо он намеренно убил молодого опричника запрещенным ударом в висок, нарушивСм. об этом в книге Ильи Сермана «Михаил Лермонтов», 1997. С.123-124 строгие правила кулачного боя.
Сложное отношение автора «Зодчих» к Ивану в какой-то степени оказалось близко к народному представлению об Иване Грозном и перекликается с изображением царя в поэме Лермонтова.
Несколько позднее восхваление Ивана Грозного стало существенной частью идеологии победившего сталинизма. Еще шла война, но уже явно обозначились ее перелом и грядущая победа. И Сталин окончательно (вместо Петра I) делает беспощадного жестокого садиста своим идеологическим предшественником. Самые талантливые художники, окружавшие престол советского владыки, берутся за изображение мудрого политика, круто, но справедливо выводящего измену. Алексей Толстой написал пьесу в двух частях с выразительными названиями «Орел и орлица» и «Трудные годы» (1943). Сергей Эйзенштейн снял фильм «Иван Грозный» (1945). И Кедрин, уже напрямую обращаясь к фольклору, тоже написал «правильные» стихи о царе Иване (1944).
Он отталкивался от исторической песни «Ермак у Ивана Грозного». Царь, выслушав покаянные речи бывшего «воровского донского атаманушки», а ныне покорителя огромной и богатой страны, милостиво жалует его «Тихим Доном».
У Кедрина в соответствии с партийной установкой 1930-х годов об измене, пронизывающей все поры государственной жизни, Иван тут же обращается к потенциальным изменникам-боярам:
И царь исподлобья глазами блеснул,
Свой взгляд задержав на боярах:
— Так вот как, бояре, бывает подчас!
Казацкая доблесть — наука для вас.
Казаки от царского гнева, как вы,
У хана защиты не просят,
Казаки в Литву не бегут из Москвы,
И сор из избы не выносят.
Заканчиваются стихи дружным пированием прощенных разбойников с царем. Впрочем, может быть, стон колоколов омрачает эту благостную идиллию единения царя с народом:
В кремлевской палате накрыты столы
И братины подняты до рту.
Всю долгую ночь Ермаковы послы
Пируют с Иваном Четвертым.
Хмельная беседа идет вкруг стола,
И стонут московские колокола.
 Посланники от Ермака у красного крыльца перед Иваном Грозным. Картина С. Р. Ростворовского, 1884 год
Посланники от Ермака у красного крыльца перед Иваном Грозным. Картина С. Р. Ростворовского, 1884 год
Эти стихи Кедрин написал спустя шесть лет после «Зодчих». В них Грозный изображен гораздо «правильнее», официознее, чем в знаменитой балладе. Но и в той, как мы видели, было некоторое моральное оправдание жестокости с государственной, воплощенной в правителе, точки зрения. Нет ничего удивительного в том, что поэт отдал некоторую дань жестокому величию самодержавного владыки. Культ Сталина и ужас террора набрали к 1938 году полную силу. И в это страшное время даже Пастернак хотел поговорить с кремлевским вождем «о жизни и смерти», Мандельштам, пусть вынужденно, писал ему оду, а Булгаков явно симпатизировал своему Воланду.
Поэтому и народ в балладе «Зодчие» относится к грозному крутому владыке с почтением и подобострастием. Сами мастера с традиционным раболепием общаются с царственным заказчиком, который с таким же традиционным высокомерием обращается к зодчим:
«Смерды!
Можете ль церкву сложить
Иноземных пригожей?
Чтоб была благолепней
Заморских церквей, говорю?»
И на роковой вопрос, смогут ли они построить церковь «пригожей, благолепнее этого храма», гениальные архитекторы отвечают с тем же смирением:
И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие:
«Можем!
Прикажи, государь!»
И ударились в ноги царю.
Красота великолепной постройки описывается только автором. «Дивились ученые люди, / Зане эта церковь / Краше вил италийских / И пагод индийских была!» И в нарушение всякой хронологии автор сообщает еще, что «диковинных храм живописной артелью монаха Андрея Рублева изукрашен зело». Простым людям не до красот искусства. Единственный представитель народа, который любуется «лепотой» непревзойденного творения, — «непотребная девка» «с рогожкой своей, с бирюзовым колечком во рту», которая
Стояла у Лобного места
И, дивясь,
Как на сказку,
Глядела на ту красоту...
Кругом царит «срам», нищета, «подлый народ» пропивается до креста в кружалах, «тать, засеченный плетьми, у плахи лежал бездыханно». И эта унылая атмосфера, в которой зодчие создавали свой шедевр, вполне коррелировала с тем кошмаром, который стоял над Россией в 1938 году.
* * *
Прошло двадцать лет. Много чего произошло за это время. Умер наконец самый страшный тиран в истории России. Куда до него Ивану Грозному! Начался период, с легкой руки Эренбурга названный оттепелью. Нельзя сказать, что повеяло ветром свободы, но дышать стало значительно легче.
В самом начале 1959 года (10 января) в «Литературной газете» появилась поэма Андрея Вознесенского «Мастера». Молодой поэт (Вознесенскому было 26 лет), конечно, превосходно знал и помнил знаменитую балладу Кедрина. Он от нее отталкивался, в чем-то полемизировал, что-то продолжал...
 Так же, как у Кедрина, в поэме две основные темы: искусство и власть. У Кедрина, как мы видели, они находятся в некоторой противоестественной и мрачной гармонии, в чудовищном единстве. Вознесенский не просто разделяет, но противопоставляет их. Противостояние заявлено в самом начале двумя «Посвящениями».
Так же, как у Кедрина, в поэме две основные темы: искусство и власть. У Кедрина, как мы видели, они находятся в некоторой противоестественной и мрачной гармонии, в чудовищном единстве. Вознесенский не просто разделяет, но противопоставляет их. Противостояние заявлено в самом начале двумя «Посвящениями».
Первое обращено к «художникам всех времен». Если у Кедрина гениальные зодчие бросались «в ноги царю», то для Вознесенского
Художник первородный
Всегда трибун.
В нем дух переворота
И вечно — бунт.
Мастера, созидатели (их у Вознесенского семеро сильных и смелых) не кланяются владыкам, а воюют с ними:
Ваш молот не колонны
И статуи тесал —
Сбивал со лбов короны
И троны сотрясал.
А во «Втором «Посвящении» автор уже от собственного имени проклинает тиранов, владык-варваров, видящих «в Пегасе троянского коня»: «Вас мое слово судит... проклятье вам».
Если Кедрин начинает свою балладу с победы над Казанским царством, то Вознесенский после двух «посвящений» начинает поэму с издевки над царем, используя известную нам всем с детства детскую «докучную сказку». Правда, с некоторой зловещей коррективой: вместо мочала — человек, ведь речь идет об Иване Грозном:
Жил-был царь.
У царя был двор.
На дворе был кол.
На колу не мочало —
Человека мотало!
Хвор царь, хром царь...
Царь мерзок, отвратителен и жесток, и храм он велел построить не в память оной победы, как у Кедрина, а чтоб царя сторожил, чтоб народ страшил. Такое отношение к царю, насмешка, издевка (только не над Иваном Грозным!), тоже встречается в фольклоре. Не очень почтительны к князю Владимиру составители былин, есть осмеяние царя и в народном скоморошном представлении. Вот его описание:
«Сидит царь Соломон на троне; кругом его придворные; „Позвать ко мне маршалку” <шута> кричит он; приходит маршалка, кланяется Соломону и спрашивает: „О царю Соломоне, зачем меня призываеши и что творити повелеваеши?” — и, не дожидаясь ответа, поворачивается к нему задом и производит нескромный звук (сжимая телячьи пузыри, которые у него повязаны под мышками)».
Так Вознесенский, изображая царей и тиранов, отталкивается от фольклорного, скоморошьего представления о властях предержащих.
Яркими живыми красками, гораздо выразительнее, чем Кедрин, описывает Вознесенский построенный храм, отдавая этому описанию целую главу (из семи):
Здесь купола — кокосы
и тыквы — купола.
И бирюза кокошников
Окошки оплела.
<...>
...А храм пылал в полнеба,
как лозунг к мятежам,
как пламя гнева —
крамольный храм!
И сразу вступает дружный хор врагов искусства, свободы, самой жизни, бояре, дьяки, купец голландский: шельмы, в бараний рог, не храм, а срам, надругательство, хула и украшательство.
Народ, как и у Кедрина, представлен лишь одним индивидуумом. У Кедрина это была непотребная девка, которая любуется красотой храма. У Вознесенского:
...мужик стоял, да посвистывал,
Все посвистывал, да поглядывал,
Да топор
рукой все поглаживал.
Непонятно, то ли мужик готов обрушиться с топором на «классовых врагов», царя и его подголосков (так, наверное, считали редакторы и цензоры), то ли перед нами та страшная стихия, которая снесет и царей, и бояр, и новый храм, и искусство, и вообще культуру («русский бунт, бессмысленный и беспощадный»).
Но пока, в следующей главке, перед нами разворачивается радостное буйство — праздник сотворения величайшего чуда — совершенного создания искусства. Это радость освобождения, торжество свободы, эйфория победы над тиранией:
Холод, хохот, конский топот да собачий звонкий лай,
Мы, как дьяволы, работали, а сегодня — пей гуляй!
Гуляй!
Девкам юбки заголяй!
В этих стихах, бесшабашных, скоморошьих, разухабистых, с преобладанием хореических ритмов, отразилось пьянящее ощущение свободы, свежего ветра, наступившей весны после многолетних жестоких морозов. Оно было передано в картине Чухрая «Чистое небо» (1961) замечательными весенними кадрами (сразу после смерти Сталина): тает снег, крошатся ледяные глыбы, и освобожденная могучая река свободно несет свои воды.
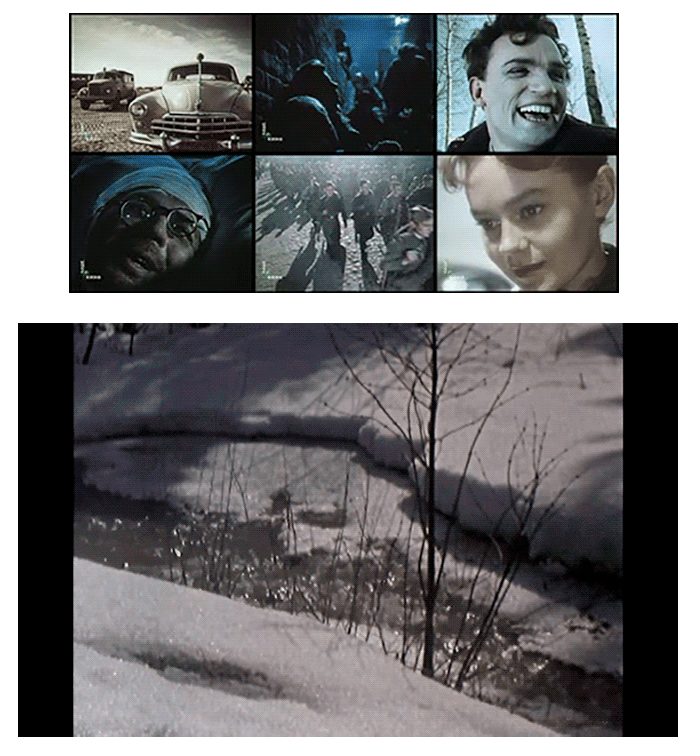 Кончается главка задорным созидательным призывом: «Ой вы, плотнички, пилите тес для новых городов...» И вдруг вся эта радостная вакханалия труда и праздника разрешается зловещим вопросом и еще более зловещим ответом/вопросом:
Кончается главка задорным созидательным призывом: «Ой вы, плотнички, пилите тес для новых городов...» И вдруг вся эта радостная вакханалия труда и праздника разрешается зловещим вопросом и еще более зловещим ответом/вопросом:
Го-ро-дов?
Может, лучше — для гробов?..
Некоторые исторические основания для подобного сомнения, зловещих вопросов были. Уже в 1956 году, всего через три года после начала оттепели, советскими войсками была жестоко подавлена Венгерская революция.
И следующая маленькая седьмая главка снова вводит тему тюремных стен, торжества зла, смерти, гибели искусства: «Поэмы нет. / Была в семь глав она — как храм в семь глав... Она у плахи. / Стоит в ночи... И руки о рубахи / Отерли палачи».
Поэма заканчивается «Реквиемом». Зловеще звучит его первая половина. Погибли созидатели, погибла поэма, погибла, гибнет и сама жизнь:
Вам сваи не бить, не гулять по лугам!
Не быть, не быть, не быть городам!
<...>
И женщины будут в оврагах рожать,
И кони без всадников — мчаться и ржать.
Сквозь белый фундамент трава прорастет.
И мрак, словно мамонт, на землю сойдет.
И в эту апокалиптическую картину врывается вдруг звонкий голос молодого, сильного, уверенного в себе автора: «Врете, / Сволочи, / Будут города <...> Я, / Вознесенский, / Воздвигну их!» Он — дитя оттепели. Свежий ветер повеял над страной, долгие годы задыхавшейся под пятой тирана, и поэт-архитектор громогласно провозглашает право художника (свое право) на созидание, творчество:
Я — парень с Калужской,
Я явно не промах,
В фуфайке колючей,
С хрустящим дипломом.
Я той же артели,
Что семь мастеров.
<...>
Я осуществляю в стекле и металле,
О чем вы мечтали,
О чем не мечтали...
Никакого почтительного ужаса перед тираном Вознесенский не испытывает, только омерзение и презрительную ненависть. И это отличает его поэму от «Зодчих». Однако победить это зло у смелого автора плохо получается. Радость созидания, победа прекрасного все время оборачивается то гробами, то палачами, готовыми уничтожить и красоту, и ее создателей. И радостная вакханалия пруда, праздника, созидания, победы завершается четырьмя зловещими строчками и «Реквиема», и всей поэмы:
... А вслед мне из ночи
Окон и бойниц
Уставились очи
Безглазых глазниц.
Очень талантливый, тонко чувствующий поэт в разгар оттепели, кажется, предвидел ее страшный конец: лязг советских танков по улицам Праги в 1968 году. А бескровная революция 1991 года на наших глазах окончательно завершилась конституционным переворотом 2020-го:
Уставились очи
Безглазых глазниц.