Теория и практика космического восстания
Философ Евгений Кучинов о Святогоре, анархо-биокосмизме и имманентной сотериологии
Как складывался ваш круг интересов?
Я получил историческое образование в Нижнем Новгороде, здесь же защитил диссертацию о мифологическом восприятии времени в древнеегипетской культуре. Сейчас преподаю в Мининском университете, читаю курсы по философии ХХ–XXI веков, русской и зарубежной. Занимаюсь я в основном философией (психоанализом, шизоанализом, политикой) техники, историей русской философии первой трети ХХ века, постструктурализмом и современной философией «после спекулятивного поворота». Если говорить о кругах чтения, в которые я был втянут и которые так или иначе меня формировали, то первым кругом была русская классика XIX века (особенно Достоевский) и поэзия Серебряного века (особенно Максимилиан Волошин), Новый Завет и святоотеческие тексты, потом было много мифологии и эзотерики — от египетской Книги Мертвых и Ам-Дуат до «Розы мира» и Ошо. Потом началась философия: феноменология, Хайдеггер, Лакан, Делез, Деррида, Фуко, Симондон — ну и совсем современное: Мейясу, Харман, Брайант, Шавиро, Нойс, Уорк и т. д. и т. п. Параллельно со всем этим я занимался левой теорией (от Маркса и Бакунина до Негри и Боба Блэка).
И еще один важный пункт: моя работа всегда была погружена в большое количество весьма экстремальной музыки (грайндкор, нойз, глитч, панк и т. п.). Думаю, именно музыка всегда толкала меня на поиски чего-то странного, чего-то выходящего за рамки обыкновений. В итоге преподавание в университете оказалось для меня довольно скучным (хотя и очень полезным в плане прокачивания мозгов), и мы с друзьями сделали проект «PPh | Pop-Philosophy!», где стали заниматься философией на свободных от бюрократизма площадках, на первомайских шествиях, в барах, клубах, галереях и т. д. У нас в PPh побывали многие интересные люди, общение с которыми меня очень вдохновило и вдохновляет до сих пор, — Миша Куртов, Йоэль Регев, Саша Ветушинский, Рома Михайлов, Денис Сивков и другие. Именно в рамках PPh я заинтересовался анархо-биокосмизмом, опубликовав на pop-philosophy.net первый текст по теме — «Фрагменты анархо-биокосмистов».
А увлечение Отцами Церкви — это пройденный этап или оно может пригодиться тому, кто увлекается Мейясу и анархо-биокосмистами? И почему именно Максимилиан Волошин? Мне кажется, любители Серебряного века чаще увлекаются фигурами вроде Андрея Белого.
Ну, с одной стороны, Новый Завет и Отцы Церкви после русской классики XIX века — это, как мне кажется, вполне логично. С другой стороны, я долгое время преподавал средневековую философию, и тексты Отцов Церкви были там очень нужны. Сейчас я тоже часто к этим текстам обращаюсь, но уже не только и не столько в историко-философском ключе. Скорее меня интересует, что с ними сегодня можно сделать, как их можно по-новому прочитать. Например, не так давно я перечитывал «О граде Божьем» Августина в контексте темы «секс и техника». Кто бы мог подумать, что Августин одним из первых в философии описал сексуальную жизнь машин? Это очень интересный сюжет. Или, например, сейчас я перечитываю всю святоотеческую классику (а также и Фому Аквинского), занимаясь темой теологической криминалистики воображения. Фома Аквинский пишет потрясающие вещи о воображении после смерти тела, о воображении у животных и о различных расстройствах воображения. Ужасно интересно!
Что касается Максимилиана Волошина, то тут не было никакого плана, поэтому вопрос «почему именно он?» не имеет сколько-нибудь внятного ответа. Он подвернулся под руку, вот и все. Его стихи были в составе какой-то маленькой антологии поэзии Серебряного века, а книжку мне подсунула учительница литературы в пору моего увлечения стихотворством. Я ее прочитал, и Волошин мне понравился больше всех. Это были красивые 1990-е годы, книг не хватало, интернета не было. И вот на книжном развале я нахожу целую книгу Волошина, издательство «Феникс», а там уже все серьезно — «Путями Каина» и так далее. Вот эту вещь я очень полюбил, знаю ее почти наизусть. Сейчас я тоже часто Волошина читаю — вот прямо в это мгновение у меня (благодаря темам, которыми я последнее время занимаюсь) в голове крутятся его строки 1924 года:
У нас в душе некошеные степи.
Вся наша непашь буйно заросла
Разрыв-травой, быльем да своевольем.
Размахом мысли, дерзостью ума,
Паденьями и взлетами — Бакунин
Наш истый лик отобразил вполне.
В анархии все творчество России:
Европа шла культурою огня,
А мы в себе несем культуру взрыва.
Огню нужны — машины, города,
И фабрики, и доменные печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя, —
Стальной нарез и маточник орудий.
Даже в этих строках видно, что Волошин очень космистский автор, особенно с этой идеей о культуре взрыва (хотя в «Путях Каина» на эту тему сказано гораздо больше). Задумаемся над такой параллелью: Николай Кибальчич, народоволец, которого повесили за покушение на Александра II, был главным техником «Народной воли», где и разрабатывал снаряды с «гремучим студнем», ставшие орудиями цареубийства; с другой стороны, уже в тюрьме он подготовил проект летательного аппарата для космических полетов, основанного на идее управляемого взрыва. Я убежден, что цареубийственный взрыв и взрыв, открывающий выход в космос, — один и тот же (Волошин, кстати, тоже об этом говорит). Собственно, из этих «некошеных степей», буйно заросших разрыв-травой, и вырос анархо-биокосмизм.
Прежде чем перейти к биокосмизму и Святогору, наследием которого вы занимаетесь, стоит, думаю, кратко охарактеризовать космизм в целом — что это за феномен, откуда он взялся, на какие запросы отвечал и в чем заключается лично ваш к нему интерес?
На космизме, как и на любом другом «-изме», лежит печать упрощающего обобщения, наследования и институциализации. То есть, с одной стороны, под эту рубрику подверстываются самые разные движения, имена, идеи, практики и стратегии, а с другой стороны, что-то всегда оказывается «за бортом» в качестве исключенного и вытесненного, в качестве еретического, анархического, неинституциализируемого. Когда к космизму прибавляется прилагательное «русский», ситуация становится еще запутаннее, и чуть ли не вся «русская философия» (со времен митрополита Илариона) может быть объявлена космистской.
Я бы определил космизм очень коротко: это теория и практика имманентного космического восстания. До смешного коротко, да? Но это максимально широкий контекст, который позволяет смотреть на космизм как на множество, а не как на некую целостную ортодоксию. Если говорить о генеалогии космизма, то нужно отметить несколько моментов. Космизм — это движение, которого не существовало до Нового времени с его коперниканско-галилеевской астрономией, переопределившей положение человека в космосе (и сам космос), экспериментальной наукой, переопределившей самого человека, политиками имманентности, через революцию строившими Царство Божие на земле, и атеизмом, который был не чем иным, как радикализацией христианства. Еще один важный контекст — это становление национализмов, национальных государств, идеологии которых космизм противопоставляет себя как учение о жизни в космосе, а не на клочке земли, окруженном иными народами, соперниками, врагами. Можно назвать космизм имманентной сотериологией, учением о спасении, которое этический радикализм религиозных чаяний спускает с небес на землю. Этот радикализм переносит центр тяжести с бездеятельного созерцания на фактическое изменение и звучит как в 11-м тезисе Маркса о Фейербахе, так и в проективной установке Федорова: не объяснять, не созерцать, но менять, делать. Можно ли Маркса назвать космистом? Думаю, если бы мы спросили его, что будет после того, как победит мировая революция, он, вполне вероятно, дал бы космистский ответ: дальше — космос (многие марксисты так отвечали).

То есть проблема, на которую отвечает космизм, заключается в космической организации жизни, имманентном росте жизни, освободившейся от иллюзий, это проблема ее космического восстания. Ответы на нее могут быть самыми разными, но их можно расположить по оси пространства (космическое восстание — это полеты в космос, освоение других планет, регуляция космоса) и по оси времени (восстание жизни — это фактическое ее продление, достижение бессмертия и воскрешение).
Конечно, не русский космизм придумал все эти проблемы и начал давать на них ответ. Об инопланетянах писали уже Николай Кузанский и Джордано Бруно, идеями космических полетов болела чуть ли не вся Европа XIX века, уже в 1865 году Жюль Верн написал «С Земли на Луну», а через четыре года — «Вокруг Луны». Если говорить о воскрешении, то Луиджи Гальвани и его племянник Джованни Альдини, основоположники электрофизиологии, еще в конце XVIII — начале XIX века экспериментировали с частичным воскрешением трупов с помощью электрического тока (их научные эксперименты продолжил химик и натурфилософ Эндрю Юр, и все эти сюжеты в итоге повлияли на написание «Франкенштейна»).
Русский космизм внес в это поле мощную моральную и этическую, да еще и политическую составляющую. (Различие морали и этики, по Спинозе, состоит в том, что мораль предписывает, что должно, а этика экспериментирует с тем, что можно). Федоров сделал воскрешение отцов и освоение космоса фундаментальным моральным обязательством, одно из ключевых слов у него — долг. Мы должны стать воскресителями и регуляторами природы. Циолковский размышляет скорее о том, какие сверхформы могла бы принять наша жизнь (и он, надо сказать, не чужд идей, предполагающих уничтожение низших форм жизни), и пишет о возможностях космических полетов в духе Жюля Верна. Валериан Муравьев говорит о космической революции. Анархисты же кричат о космизме как альтернативе национализму и империализму, о Земле как техническом объекте (Братья Гордины), об интерпланетаризме как альтернативе интернационализму и о свободном бессмертии (Святогор), о крионической перепайке органики, войсках анабиоза и комитетах бессмертия (Александр Ярославский). Русский космизм опоэтизировал эту тему и внес в нее множество утопических мотивов.
Стоит ли объединять все эти потоки под единой рубрикой «русского космизма», с акцентом на первом слове? Если очень хочется сделать из него туземную диковинку, то да, но мне ближе подход к этому множеству как к коробке с инструментами и деталями: вопрос не в том, кем и где это придумано, а в том, что мы сегодня можем с этим сделать.
А что вы думаете о современных попытках реконтекстуализации космизма (речь, в первую очередь, о Борисе Гройсе, под редакцией которого несколько лет назад вышла антология космистских текстов)?
С выходом в свет антологии, составленной Борисом Гройсом (точнее, даже раньше), началась «легализация» космизма, в которой заинтересован прежде всего определенный круг людей, близких к современному искусству и теории. Поясню небольшой предысторией и простым примером. Помню, где-то в 2011-м, когда я уже некоторое время занимался чтением Николая Федорова, увлекавшего меня странностью и смелостью мысли, я прочитал текст Александра Секацкого «Пролетариат и смерть». Отличный текст, он очень правильно в отношении материала, с которым имеет дело Секацкий, написан: там много фиктивных источников, разбоя воображения, там Центральный институт труда представлен как фабрика экспериментов по воскрешению, а Александр Богданов — как радикальный апологет и теоретик чудовищно реалистичного советского зомби-муви, в котором павшие на полях Гражданской войны пролетарии частично воскрешаются с помощью электричества, носят ящики и забивают своими почерневшими руками гвозди. Разумеется, имя Федорова упоминается там в первом же предложении. После этого я много читал, смотрел и слушал Секацкого — и как-то во время университетского обсуждения ситуации в современной русской философии я обронил фразу: «А вот Секацкий считает, что один из самых интересных русских мыслителей — это Федоров». В ответ один философ, как раз близкий к институциям, связанным с современным искусством, сказал: «А я никогда и не считал Секацкого продвинутым философом». Понимаете, в чем посыл? Если ты занимаешься космизмом, то это автоматически свидетельствует о том, что философ ты так себе: если не идиот, то уж точно чудак. И каково же было мое удивление, когда тот же самый философ после выхода в свет «Русского космизма» Гройса вдруг разродился текстом, в котором писал, что видит в Федорове и космизме некую актуальную тенденденцию, некую живую жилу, которая может взбодрить современные философские дискуссии. Таков, на мой взгляд, смысл «легализации космизма»: теперь в определенных кругах можно (и даже нужно) говорить о космизме без риска прослыть чудаком. Легализация — это минимизация риска. У нее есть отрицательные последствия: вокруг темы появляется не совсем здоровый хайп; у тех, кто к ней обращается, появляется ощущение, что никто до них космизмом на должном уровне не занимался; сама история космизма приобретает безальтернативный характер и ограничивается фигурами, включенными в ту самую антологию (Федоров, Циолковский, Святогор, Муравьев, Богданов) и т. п. Есть и положительные следствия: появилась возможность вести серьезную дискуссию о космизме на самых разных уровнях и в самых разных контекстах; ощущение, будто мы занимаемся космизмом как бы с чистого листа, подталкивает к эксперименту и изобретению, а также к пересмотру канонической истории космизма, вращающейся вокруг Федорова.
А что именно привлекает современных теоретиков и художников в космизме? Это просто очередная модная тема или же возникла реальная потребность в неких идеях и т. п.?
Вот конкретный пример: Борис Гройс и современные художники нашли у Николая Федорова и Валериана Муравьева замечательную вещь, мощную и оригинальную идею музея. Федоров был библиотекарем Румянцевского музея, для него эта тема очень важна, он посвящает ей множество страниц, на которых задачи музея становятся просто грандиозными. В сущности, весь космос должен стать музеем, но музеем не созерцательным, не выставочным, а деятельным. Должен появиться активный музей, охватывающий и искусство, и науку, и технику, и быт, и воскрешение мертвых. Каждое существо должно стать музееобразным. (Кстати, у Федорова есть любопытное размышление о том, что музей не человеческое творение и даже не свойство живой природы: он начинается на неорганическом уровне). Для современного музея такой заход, конечно, очень привлекателен. Не менее масштабен у Федорова и проект нового «коперниканского», как он его называет, искусства, которое тоже переключается с созерцания на деятельное освоение, переделывание. Очень красиво это новое искусство описано у Муравьева: бесконечная музыка, которая достигает отдаленных звезд и включает их в умопомрачительный космический хоровод; живопись, которая в прямом смысле слова «пишет жизнь», создает живые существа, меняет облик планет и становится также «атмосферописью» (давайте будем показывать кино на облаках!); архитектура летающих кремлей и так далее и так далее.
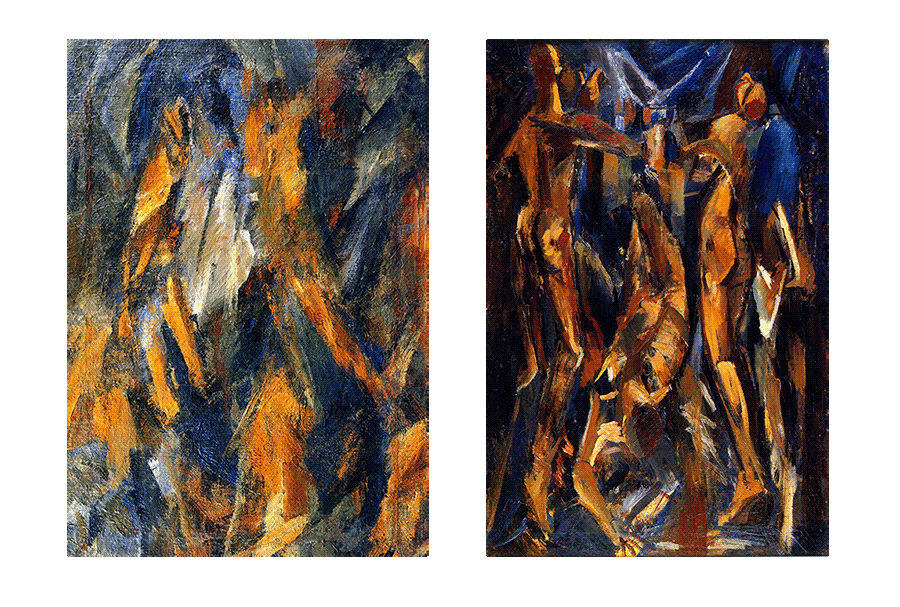
Слева: Василий Чекрыгин. Претворение плоти в дух, 1913 год. Справа: Василий Чекрыгин. Три фигуры, 1914—1915 годы
Фото: avanage.ru
Чему все это отвечает? Есть ли запрос на такое понимание музея и искусства? Думаю, запрос на масштаб, на какое-то большое дело есть, конечно. Не хватает новизны, свежести. Но тут проявляется еще один важный элемент русского космизма, делающий его очень привлекательным: на фоне западной традиции он кажется туземным. В этом смысле его «легализация» обретает еще и совершенно конкретный торговый смысл, он может быть замечательной статьей интеллектуального экспорта, как туземная диковинка. И в этом смысле тоже важна «минимизация рисков». В ряду прочих туземных товаров «русский космизм» должен быть обеззаражен, герметично упакован в целлофан существующих трендов и сопровожден какой-то рекламной кампанией. Эта история интеллектуального экспорта началась не вчера и не с космизма, разумеется. Трагикомические черты здесь проступают тогда, когда этот обмен становится чем-то вроде ветви сырьевой экономики: мы извлекаем из «русских недр» что-то красивое, смотрим, совершенно не понимая, что с этим делать, и продаем тем, кто более технологичен, — чтобы потом выкупить обратно в обработанном виде. Чего в этой истории не хватает, так это критики и изобретательности. Нам нужно предельно критично относиться к «сокровищам русской духовности», без всякого самолюбования — и обходиться с этими «сокровищами» настолько изобретательно, насколько это возможно. И мне кажется, что нынешняя тяга к космизму и тяжбы вокруг него дают простор и для критики, и для новых идей.
С космизмом более-менее ясно — расскажите теперь, пожалуйста, о своих занятиях анархо-биокосмизмом и архивом Святогора.
Первым, что я опубликовал, были «Фрагменты анархо-биокосмистов» — экспериментальный текст, во многом безразличный к архиву. А вот книга «Святогор» — это, можно сказать, приложение к «Фрагментам», та самая архивная история, которая ранее была известна не очень хорошо. Контекст «некошеных степей», буйно заросших разрыв-травой, из которого вырастал анархо-биокосмизм, пока малоизучен, но схематично его уже можно наметить. Судя по всему, биокосмистом называл себя уже Циолковский, разработавший учение о монизме вселенной, странное и нуждающееся в новом прочтении. В условиях политического бурления начала ХХ века Братья Гордины, Святогор, Ярославский и их сторонники произвели анархическую ревизию биокосмизма, задействовав несколько реагентов: русский поэтический, художественный и лингвистический авангард (Хлебников, Крученых, Гастев, Малевич и другие), утопический потенциал ранней русской фантастики (например, роман Александра Богданова «Красная звезда») и собственно радикальную анархическую теорию (пананархизм, анархизм-универсализм, всеизобретательство). У Святогора к этому списку прибавилось «трезвое» анархическое богоискательство — он из семьи священника, учился в семинарии и писал богословские тексты на русском и украинском языках — это, в общем, христианское богословие; а вот Братья Гордины — иудейские богословы, причем весьма оригинальные. Все анархо-космисты в теории и на практике были анархистами, поэтами, фантастами и, опционально, богословами. Вот из этих бурлящих сред и вырос анархо-космизм.
Работая над собранием текстов Святогора, я с удовольствием вспомнил, что я немножко историк и люблю иметь дело с источником в его материальности. К сожалению, не могу похвастаться тем, что нашел все связанные со Святогором тексты, пока для меня в темноте остаются как подробности его гибели, так и ранние годы жизни (до 1910). Его библиография, которую он сам периодически составлял, нестабильна, в ней то появляются, то исчезают некоторые сочинения. Какие-то из них Святогор, скорее всего не без самолюбования, сопровождает пафосным примечанием «уничтожено автором». Я еще не читал его творений на украинском языке, какие-то его «стихеты», скорее всего, канули в Лету, поскольку публиковались в третьесортных поэтических сборниках 1920-х годов. И так далее. «Архив Святогора» — весьма диффузная штука. Но мне кажется, что те тексты, которые вошли в сборник, изданный Common Place, дают довольно полную картину писательской эволюции Святогора. От оборотнических «стихетов» к вулканизму, от вулканизма к анархо-биокосмизму, от биокосмизма к богословию Свободной Трудовой Церкви и от богословия к очень посредственному, очень вялому «воинствующему атеизму», который больше похож не на стремление выделиться и сказать что-то новое, а на попытку стать невидимым. За этой эволюцией довольно сложно следить, перед нами как будто несколько разных (причем далеко не первоклассных) писателей, а то и несколько разных людей. Их объединяет какой-то специфический, почти патологический пафос (я намеренно играю этими словами, греческий пафос — это и страсть, и страдание), Святогор — крикун и певец некоего аффекта. Разгадать этот аффект непросто, самый доступный способ — попробовать его на себя примерить. Примерить на себя письмо Святогора значит оказаться в странной конвульсивной тряске, у которой несколько имен: оборотство (или бестиализм, животность), вулканизм, инстинкт бессмертия и интерпланетаризм. Это что-то в промежутке между диким оптимизмом и помешательством, между смехом и тоской, между остроумием и идиотизмом — стоит попробовать хотя бы в порядке эксперимента.
Вот, например, «стихета» 1921 года, она не вошла в подготовленный мною сборник: обнаружил ее недавно в журнале Абы Гордина «Универсал». Этим произведением Святогор был очень доволен, часто на него ссылался, несмотря на то, что оно нередко вызывало у слушателей недоумение или смех.
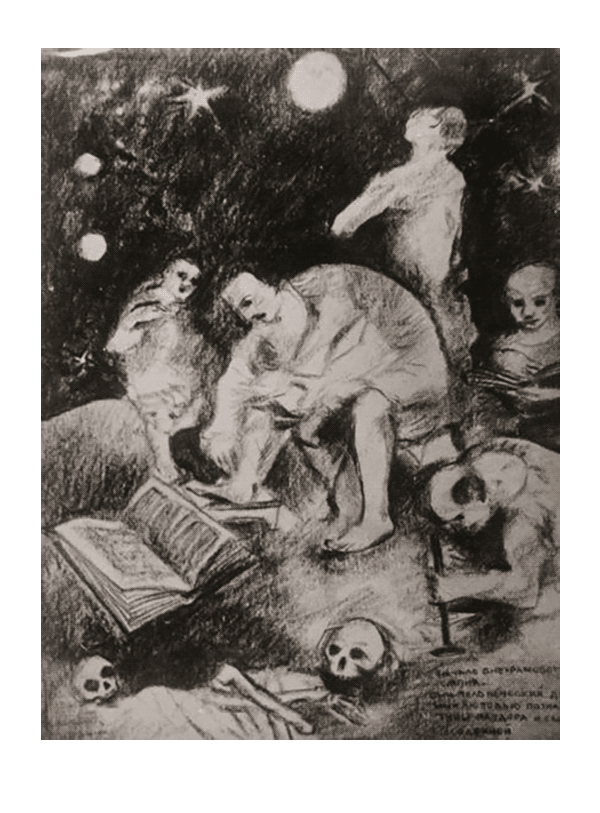
Василий Чекрыгин. Участие науки в деле воскрешения. Иллюстрация к рукописи «О Соборе Воскрешающего музея». 1922 год
Фото: liveinternet.ru
На кресте
На пригорке, у речушки,
Где бородка тощих лоз
Ноет грустные частушки,
Умер ночью Конь-Христос.
В час, когда от граней тела
Отошел в пустыни дух,
В небе искра пропестрела
Да взгрустнул глухой петух.
И кругом так пусто было —
Одинок скончался Конь.
Богородица-Кобыла
Не наплакала в ладонь.
И лежал, распят, покойник
На земли немом кресте, —
Только ветер взвыл разбойник
Панихиду на кусте.
А когда, верно закону,
Утро вскинуло лучи, —
К телу хлынули вороны,
Навострив свои мечи.
Было их несметно много
На пригорке у реки,
И терзали жадно бога,
Прежде выклюнув белки.
И никто из тех что мимо
Тела божья шли шаги,
Не учуял Никодима
В сердце тощем ни крохи.
И никто кровавой рати
Не отринул от Христа,
И никто, хотя б некстати,
Вздох не вынул у креста.
А когда приплелся вечер,
Был растерзан Конь-Христос.
Только выл безумный ветер,
Да ломались пальцы лоз.
Это такой еретический биокосмизм, в котором космос достигается через смешение, через становление животным, бестиализм. Он очень отличается от нравоучительного космизма Федорова, или сверхрационального космизма Муравьева, или конструктивистского космизма Циолковского. Здесь веет спокойным безумием.
Во «Фрагментах» вы ссылаетесь на представителей спекулятивного реализма и Делеза — есть какие-то параллели между их идеями и творчеством этих подзабытых русских авторов?
Я бы не стал говорить о том, что биокосмизм связан со спекулятивным реализмом и постделезианством, или о том, что у них есть что-то общее. Я исхожу из инструментальных соображений, из (вполне делезианской или поп-философской, да) логики ящика с инструментами и деталями. С текстами биокосмистов самая большая проблема, как мне кажется, в том, что совершенно непонятно, как их читать, что с ними делать. К ним нужна отмычка, ключ, иначе они выглядят как бред. Скажем, Фрейд изобрел ключ для чтения бреда невротика, и после него уже ни о чем нельзя сказать «это просто бред» — и отбросить в сторону, так как бред требует не распознания и отбрасывания, а толкования. Кстати, я все жду психоаналитических интерпретаций русского космизма. Тут просто тьма интересных сюжетов, особенно у Федорова, который, как известно, был внебрачным сыном князя Гагарина, из-за чего у него возникли некоторые жизненные трудности. И вот Федоров пишет об отцах, о братстве, о воскрешении… Буквально миф «Тотема и табу», вывернутый наизнанку! Нужно написать комикс о встрече Федорова и Фрейда. Так вот, если Фрейд научил нас толковать бред невротика, то кто научит нас толковать биокосмический бред? Схожие проблемы возникают тогда, когда приходится работать, например, с поздними текстами Вильгельма Райха о его наблюдениях и контактах с НЛО. И вот здесь на помощь приходит Делез (большой любитель Райха, кстати) с его вниманием к миноритарности и невостребованным авторам, с его экспериментальным письмом и темами становления-интенсивностью, становления-молекулой, с его геологией морали, а главное — с его «кривочтением», которое позволяет читать Ельмслева как «геолога-спинозиста», которое сбривает бороду Марксу и заставляет Гегеля бороду отрастить. Не менее полезен Мейясу, через его доказательство контингентности законов природы очень удобно читать Братьев Гординых; или Тимоти Мортон, с помощью его «экологии без природы» можно интерпретировать вулканизм Святогора; или Стивен Шавиро, через концепцию аффектов которого можно понять гипоконцептуальные крики того же Святогора.
С другой стороны, есть пересечения в этической проблематике (Мейясу с дилеммой призрака и воскрешение / бессмертие у космистов), а еще, как это ни удивительно, сходятся некоторые направления концептуализации (например, вопрос о технике у Гординых и у Симондона). С этим тоже можно работать.