«Тем, кто живет Жижеком, сложно выдержать планку схоластической философии»
Интервью с историком философии Галиной Вдовиной
— Вы занимаетесь второй схоластикой — чем она отличается от первой?
— Второй ее назвал итальянский исследователь Карл Джакон в 1950 году, имея в виду, что она представляет собой какой-то новый этап в сравнении со средневековой схоластикой. Новизна эта выражалась в нескольких вещах: был период, сильно заряженный идеологически, после Тридентского собора, который выработал программу контрреформации. Схоластика как научная и образовательная область была очень сильно реформирована. В основном реформировали ее иезуиты, затем подтянулись остальные интеллектуальные католические силы и основательно изменили программу университетского образования, правильно ее выстроив. До этого она складывалась стихийно, а теперь была упорядочена, причем с таким идеологическим зарядом, чтобы к выпускному курсу подходили люди, готовые отдать все силы работе на благо католической церкви. Была разработана система начального и среднего школьного образования, которой вообще раньше не было в таких масштабах и в таком организованном виде. А если говорить о содержании, то, конечно, в этот период развивались сквозные схоластические темы, но в то же время возникали новые области исследований и методы. Это касается, например, совершенно особого развития права в этот период, появления таких областей, как схоластическая семиотика, а еще, конечно, кардинально изменилась жанровая система философско-богословской литературы — на смену комментариям пришли полноценные трактаты.
— Начало второй схоластики, насколько мне известно, принято связывать с деятельностью основателя Саламанкской школы Франсиско де Витория и его учеников, а завершение — со смертью наиболее значительного философа-иезуита Франсиско Суареса (1617). Верна ли такая периодизация?
 Франсиско Суарес
Франсиско Суарес
— Нет. На самом деле если считать началом Саламанкскую школу (1520-е годы), то это самое-самое начало, я бы даже сказала протопериод второй схоластики, а ее полный расцвет начинается с Суаресом и после Суареса. Суарес на самом деле был водоразделом между протоэтапом и расцветом нового этапа, это XVII век и начало XVIII века.
Вообще насчет второй схоластики есть разные мнения: например, мой коллега Дмитрий Викторович Шмонин считает ее своеобразным периодом идеологически заряженного томизма, закончившимся со смертью Суареса, хотя собственно средневековая схоластика на этом далеко не закончилась. Сам термин «вторая схоластика» сейчас уходит из науки, ее все чаще называют «барочной схоластикой» и «постсредневековой схоластикой».
— Какую роль в развитии этого направления сыграли иезуиты?
— Они были ударной силой. Все нововведения и даже революции в образовании и в структуре богословского и философского знания — это прежде всего иезуитские новации. Остальные ордена шли по следам иезуитов и постепенно осваивали и принимали их новации. В этом смысле я оцениваю их роль как весьма положительную.
— А как идеи иезуитов соотносились с идеями Нового времени? Общие тенденции эпохи вряд ли были созвучны их взглядам.
— Иезуиты и другие схоласты того периода очень долго шли к тому, чтобы хотя бы начать обращать внимание на новых философов. Те поначалу были для них чем-то совершенно второстепенным, лежащим вне академического поля, какими-то философствующими дилетантами. Значимые упоминания о Декарте и Локке встречаются ближе к концу XVII века, но уже в XVIII веке появятся такие странные сущности, как схоластические философы, которые считают себя картезианцами.
— Расскажите о «Метафизических рассуждениях» Суареса. Насколько я понимаю, это наиболее значимый труд для второй схоластики. На кого из предшественников Суарес ориентировался, какие у него были отношения с Фомой Аквинским и Аристотелем?
— Практически до самого конца XVI века схоластическая философия существовала в форме комментариев к Аристотелю. Когда Суарес принялся за свой трактат, который он хотел написать следуя логике самой теологической науки, а не непоследовательной аристотелевской метафизике, он все-таки эту связь сразу не прервал, но предпослал своему трактату довольно большой вводный текст, в котором указал, каким местам, каким главам и книгам аристотелевской метафизики соответствуют диспутации его трактата. В этом и заключается его непосредственная связь с Аристотелем. Что касается Фомы — у иезуитов было специальное предписание от начальства: нужно следовать Аквинскому, но они это предписание очень гибко понимали и еще более гибко применяли. Они считали, что при всем авторитете Фомы истина дороже, и то, что они считали истиной, все равно проводилось с помощью двух методов: иногда они прямо спорили с Фомой, но это считалось не комильфо, обыкновенная же практика заключалась в том, чтобы так хитро интерпретировать Фому, чтобы он оказался сторонником их нетомистских взглядов в определенных аспектах. В последние десятилетия в научных кругах стало популярным мнение, согласно которому Суарес на самом деле был скрытым скотистом, а вовсе не томистом — на словах он был сторонником Фомы, но на самом деле продвигал идеи Дунса Скота. На мой взгляд, это большое преувеличение, хотя отдельные скотистские мотивы у него прослеживаются.
— Полного перевода «Метафизических рассуждений» на русский язык нет?
— Нет, потому что целиком это две тысячи страниц большого формата. Перевести такой трактат полностью можно — скажем, на испанском он существует, но я думаю, что у нас просто нет читателей для такого перевода. Две тысячи страниц никто читать не будет. Первые пять диспутаций я переводила на свой страх и риск, потом московские иезуиты согласились их издать, а затем работа затихла, потому что у иезуитов возникли проблемы. Они свернули свой издательский проект, и дальше я пыталась продолжать эту работу со своим коллегой Виталием Львовичем Ивановым. Были публикации в электронном журнале Esse, какие-то куски публиковались в печатных изданиях. Сейчас у нас появилась надежда, что удастся перевести то, что задумывалось как третий том — «Естественную теологию» Суареса. Это огромный трактат, почти тридцать авторских листов, в котором подводится итог всем предшествующим схоластическим изысканиям в области естественной теологии. Я считаю, что это важный текст, его имело бы смысл издать на русском.
— Есть ли сегодня философы, которые разрабатывают дальше проблемы второй схоластики и развивают идеи Суареса?
— Самый яркий пример — Жан-Люк Марион, который написал две отличные книги о Декарте на фоне схоластики — «О белой теологии Декарта» и «О метафизической призме Декарта». В первой из этих книг есть огромная глава, посвященная Суаресу и Декарту, где показано, что Декарт был немыслим без Суареса, а во второй книге Декарт уже напрямую сопоставляется не только с ним, но и с другими крупными авторами второй схоластики.
Что касается актуальности Суареса: сейчас я прихожу к мнению, что для современной философии более интересны поздние авторы, потому что он все-таки во многом традиционалист и не столько открывал новые темы, сколько подводил итог тому, что было до него, а более поздние авторы часто занимались уже совсем нашими вещами. С философами сознания их можно напрямую сталкивать в диалоге: можно сказать, что гносеологический поворот произошел в XVII веке.
— Недавно в издательстве Санкт-Петербургской духовной академии вышла ваша новая книга «Химеры в лесах схоластики. Ens rationis и объективное бытие». Почему из всех схоластических понятий вы выбрали именно ens rationis, «ментальное сущее» (или «мыслимое сущее»)?
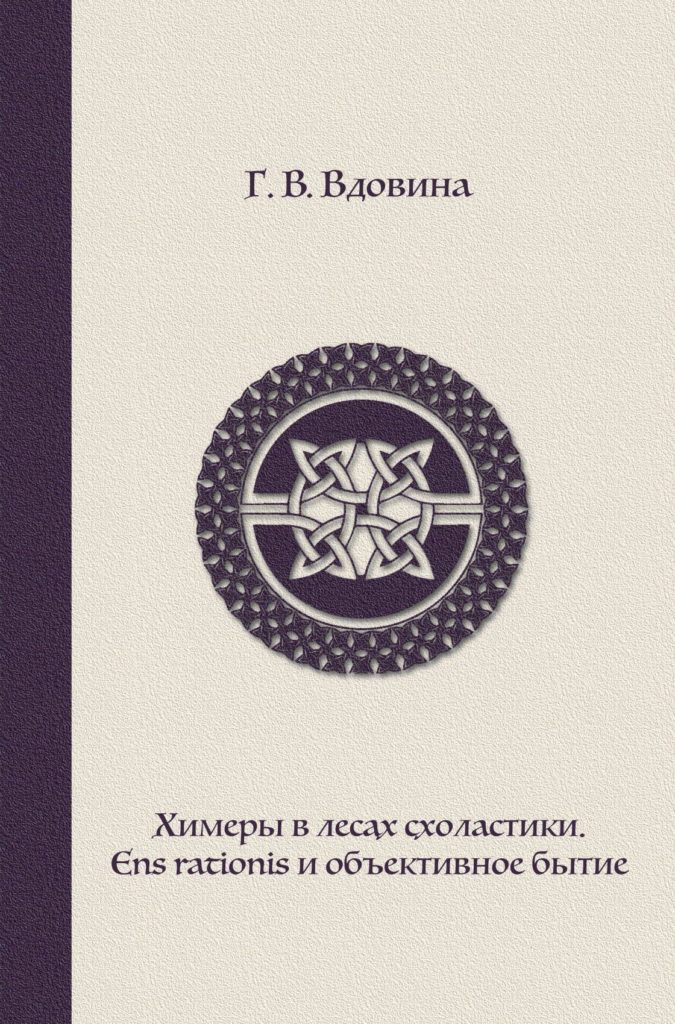 — Как я уже сказала, в схоластике этого периода происходит гносеологический поворот. Она концентрируется уже не непосредственно на независимом от нас бытии — ее интерес сосредоточен на том, как мы мыслим это бытие. Само понятие сущего в то время расширяется у очень многих схоластов, оно начинает включать в себя ментальное сущее (ens rationis). Признаком сущего, самым общим и основным, становится уже не его реальность, а мыслимость, то есть все, что мыслимо, может быть названо сущим. Поскольку такое уже не трансцендентальное, а супертрансцендентальное сущее немыслимо без осмысления его ментальной части, то внимание к этой теме растет, растет и его внутренняя теоретическая значимость. И только в послесуаресовской схоластике тема ментального сущего начинает систематически разрабатываться в разных аспектах: и в семантическом, и в когнитивном, и в онтологическом — становится важной, одной из самых главных и систематически разрабатываемых тем. Как можно было мимо этого пройти?
— Как я уже сказала, в схоластике этого периода происходит гносеологический поворот. Она концентрируется уже не непосредственно на независимом от нас бытии — ее интерес сосредоточен на том, как мы мыслим это бытие. Само понятие сущего в то время расширяется у очень многих схоластов, оно начинает включать в себя ментальное сущее (ens rationis). Признаком сущего, самым общим и основным, становится уже не его реальность, а мыслимость, то есть все, что мыслимо, может быть названо сущим. Поскольку такое уже не трансцендентальное, а супертрансцендентальное сущее немыслимо без осмысления его ментальной части, то внимание к этой теме растет, растет и его внутренняя теоретическая значимость. И только в послесуаресовской схоластике тема ментального сущего начинает систематически разрабатываться в разных аспектах: и в семантическом, и в когнитивном, и в онтологическом — становится важной, одной из самых главных и систематически разрабатываемых тем. Как можно было мимо этого пройти?
— Давайте немного углубимся в вопрос: во введении вы пишете о неверном переводе данного понятия в тексте Аристотеля на арабский, из чего впоследствии возникло разделение на уменьшенное сущее (ens diminutum) и полноценное сущее (ens extra animam, ens naturae, ens quod per decem genera dividitum). Как в итоге удалось вернуться к правильному варианту?
— То, что арабы неправильно перевели Аристотеля, — это, конечно, случайность, не имевшая фундаментальных последствий. Просто этот перевод попал в латинскую среду как раз тогда, когда само разделение, независимо от переводов, восстановилось. Есть сущее в душе, есть сущее вне души, и первое, понятно, обладает какой-то другой степенью реальности, а тут как раз подоспел арабский перевод Аристотеля — так его же можно уменьшенным назвать! Дунсу Скоту так понравился этот термин, что он его ввел вполне сознательно в свои тексты, популяризировал, и дальше он зажил собственной жизнью, а не как перевод соответствующего места у Аристотеля. Он стал обозначать то, что сформировалось в мыслительном пространстве совершенно независимо от истории переводов, а именно объективно мыслимое бытие как противостоящее бытию во внемысленной реальности.
— А как трактовали ens rationis отдельные представители второй схоластики?
— Средняя позиция заключалась в том, что есть два вида ens rationis. Первый — это любые наши логические понятия, не имеющие референтов в реальности. Поэтому термины, которые обозначают непосредственно вещи, в этом смысле не будут ментальным сущим, а любые родовые понятия и разной степени абстракции — это все уже ens rationis, потому что обозначения видовой природы как таковые не существуют в реальности. Такого рода ментальные сущие воспринимались как совершенно необходимые для нашего мышления — они полезные, правильные и поэтому исследуются отдельно. Второй вид — это ментальные фикции, и вот тут, конечно, были различные подходы: как эти фикции понимаются, как складываются, какова роль фиктивных элементов и фиктивных связок между этими элементами и т. д. Здесь, наоборот, исследования концентрировались на продуктивности сознания и на том, что оно может сотворить с любыми элементами, взятыми из реальности и становящимися затем объектами его собственной игры.
— Как в дальнейшем складывались отношения теологии и философии в Новое время?
— Суарес в самом начале «Метафизических рассуждений» пишет, что христианская философия должна быть опорой нашей теологии. С одной стороны, философия дисциплинарно отделилась от теологии, они изучались на разных курсах, имели каждый свое предметное поле, но при этом все новации, которые возникали в философии, были либо вызваны теологическими потребностями, либо сразу вставали на службу теологии. Самый известный пример — дискуссии о том, как Бог познает будущие контингентные события, то есть события, которые зависят от случайности человеческой воли. Логические новации, которые сейчас относятся к модальной логике, восходят именно к тем временам. Эта логика, с одной стороны, была затребована спором, а с другой — сразу же бросалась в этот спор и начинала в нем работать.
— Есть ли у онтологии XVII века какие-то практические перспективы или эти знания важны теперь только для истории философии?
— На мой взгляд, то, что современная философия не знает схоластической традиции XVII века, — большое несчастье. Тематически она ей очень близка по многим подходам, например, в когнитивной области это совершенно очевидно, и в то же время у этой традиции есть преимущество перед современной философией: она не ограничивает свой горизонт чисто дискуссионной стороной дела, ее диапазон шире. Схоластическая философия понимала, ради чего она входит в мелочи и частности, для нее это были не просто упражнения для ума: она видела за этим нечто большее. Но, поскольку темы те же, проблемы те же, а рабочий инструментарий во многом близок, то, как мне кажется, для современной философии сознания и аналитической философии было бы полезно хоть каким-то образом освоить эти тексты.
 Франц Брентано
Франц Брентано
— Отсылки к Суаресу и послесуаресовской схоластике можно найти у Брентано и Хайдеггера.
— Хайдеггера я вообще бы не брала в расчет: за что бы он ни брался, он везде видел что-то свое, у него была какая-то своя история философии. С Брентано, конечно, другая ситуация: мы с коллегами сейчас изучаем позднесхоластические корни философии Брентано. Ясно, что он был непосредственно знаком с Суаресом, но у нас есть подозрения, что он каким-то образом был знаком и с более поздними концепциями.
— Я знаю всего двух людей, которые занимаются изучением второй схоластики у иезуитов — это вы и Дмитрий Шмонин. Есть ли будущее у этой исследовательской области?
— У нас в стране ситуация сейчас такая: Дмитрий Викторович ушел из этой сферы, у него теперь другие научные интересы. Я знаю двух человек в России, которые занимаются близкими вещами. Первый — Виталий Львович Иванов, у него два фокуса интересов: в первую очередь, скоттисты XIV века, а потом уже иезуиты XVII века, и Родион Валентинович Савинов, но он тоже переместился в неосхоластику (сейчас он, наверное, единственный специалист по неосхоластике у нас). В мире ситуация другая, там как раз растет число исследователей нововременной схоластики. Если еще двадцать лет назад все держалось на стариках, которые у Жильсона учились, то сейчас в эту область приходит все больше молодых людей, и они очень эффективно ей занимаются. В общемировой науке изучение схоластики на подъеме, и у него, безусловно, блестящее будущее. Что касается нашей страны, есть две проблемы: во-первых, схоластика не в моде, во-вторых, к ней очень сложно подобраться, поскольку нужно выучить латынь, причем классической недостаточно — схоластический язык совершенно особенный. Причем дело не в грамматике, а в терминологии: она очень насыщенная и многоплановая, в ней очень много смыслов, которые откладывались в течение долгого времени, а еще она очень требовательна к строгости мышления. Тем, кто живет Жижеком, сложно выдержать планку схоластической философии, здесь свободного полета мысли не получится. У самих схоластических авторов такой полет очень хорошо чувствуется, когда они в совершенстве владеют своей исследовательской техникой, а современному человеку войти в это очень трудно.