Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
 Валерий Роньшин. Фотография из журнала «Юность» (№ 9, 1993)
Валерий Роньшин. Фотография из журнала «Юность» (№ 9, 1993)
Литературоведы говорят о влиянии на Роньшина ленинградского кружка ОБЭРИУ. В интернете рядовые читатели проводят параллели между его книгами и компьютерными играми типа No One Lives Forever и прочими ироническими экшнами а-ля ранний Джеймс Бонд.
Сам Валерий Михайлович предпочитает режим «ноу комментс» — мою просьбу об интервью он вежливо отклонил. Но, судя по тому, что его первый сборник малой прозы, опубликованный в 1993 году, называется «Здравствуйте, господин Хармс!», а персонажи его страшилок и детективов нередко зависают за компом, выслеживая по сети шпионов и получая мейлы с Того Света, правы могут быть и те и другие.
Обобщая: Роньшина действительно можно назвать постсоветской инкарнацией Хармса. Даниил Иванович при жизни был известен прежде всего в качестве детского автора, что, как выяснилось годы спустя, было большим упрощением. Валерия Михайловича знают в основном как городского сказочника с уклоном в готику и разного рода нонсенсы. А ведь есть у него не просто взрослые, но и очень взрослые вещи вроде «срамного» цикла «Игра в дурака», напечатанного в журнале «Идиот» (№ 32, 1995—1996) или полуэротической повести «Корабль, идущий в Эльдорадо», которая вышла отдельной книгой в 1999 году (не путайте с одноименным рассказом из сборника «Осенний карнавал смерти» 2001 года).
Кстати, эротизм Роньшина тоже вполне хармсовский, в духе его дневников: пристальный до гротескности, но не взаправду вульгарный — скорее подростковый, грубовато-трогательный. Так, в рассказе «Желтое пятно» юноша впервые в жизни встречает обнаженную женщину, и Роньшин очень точно рисует эту сцену, словно встречу Штирлица с женой в кафе «Элефант»:
«И вот Вася, не мигая, глядит на *****. А *****, тоже не мигая, глядит на Васю».
Хармс печатался в лучших детских журналах своего времени — «Чиже» и «Еже», а о Роньшине достаточно сказать, что он был завсегдатаем легендарного «Трамвая». Там впервые появились его парадоксальные, в дальнейшем многократно издававшиеся уже в составе авторских сборников тексты «Даша и людоед», «Как я стал мухой», «Дедушкин портрет» и многие другие.
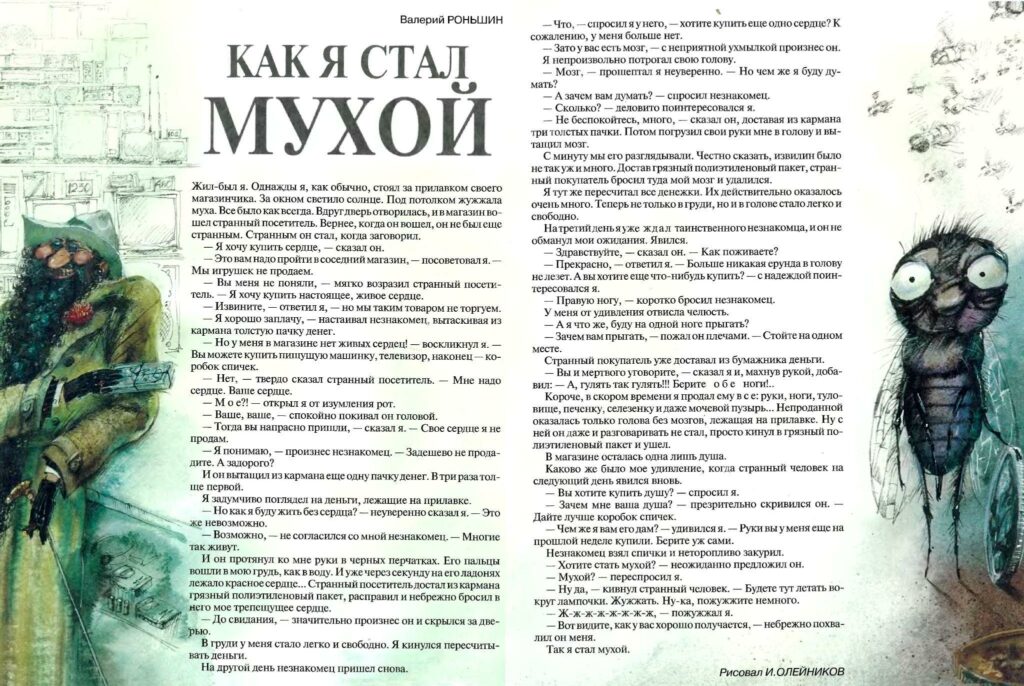 Рассказ «Как я стал мухой» в журнале «Трамвай» (№ 12, 1993)
Рассказ «Как я стал мухой» в журнале «Трамвай» (№ 12, 1993)
Ну и в чем точно совпадают Роньшин и Хармс, так это в умении провоцировать консервативную общественность, в частности мамочек и папочек, на совершенно людоедскую ненависть. Родитель и блюститель будут долго плеваться кипятком как после стихотворения Хармса «О том, как папа застрелил мне хорька», так и после рассказа Роньшина «Маленький гаденыш и его придурошная мамаша» (да, именно придурошная — через «ш»). Как вы понимаете, приведенные примеры очень удобны, ведь, чтобы обругать автора, их даже необязательно читать целиком — хватит и заголовков.
Шипящие от злости рецензии ищутся в сети легко. Положительные отзывы бросаются в глаза не сразу — хотя их и больше. Просто чаще всего они возникают в таких непопулярных жанрах, как лонгриды, монографии, научные статьи и т. д., и формулируются не по принципу «хорошо — плохо».
Вот, к примеру, исследование Юлии Чернявской и Дарьи Тубольцевой «Художественные особенности „страшилок“ В. Роньшина», написанное соответствующим строгим языком. Но при желании из него можно «отжать» прекрасную рекламу для будущего собрания сочинений:
«Творчество В. Роньшина принадлежит к феномену двухадресной литературы, т. е. ориентировано на детскую и взрослую аудиторию, и имеет значительный педагогический потенциал, актуализируя важные для воспитания нравственные и этические проблемы <...> автор смеется над своими героями и предлагает посмеяться своим читателям. Однако за анекдотической манерой скрывается глубокий смысл: родители утрачивают авторитет, оказываются педагогически несостоятельны».
А заглавие текста Ларисы Полубояриновой «Мотив вампиризма в балладе И. В. Гете „Коринфская невеста“ и его отражение в русской лит-ре (А. К. Толстой, И. С., Тургенев, В. Роньшин)» — уже само по себе исчерпывающий комплимент. Хотя со стороны и напоминает немного пресловутое трио «Гомер, Мильтон и Паниковский» — но мало ли что кому напоминает. В любом случае, многие ли наши современники удостоились прижизненной чести оказаться в столь приятной компании?
Но оставим дифирамбы и перейдем к тому, чему учит нашу молодежь и старшее поколение двухадресный современный Хармс. Текстов у Роньшина — прорва, и они очень разные, но есть в них несколько рефренных мотивов, составляющих, видимо, основу авторского мировоззрения.
Экзистенциализм, агностицизм и прочие «измы» — ну, в общем, понятно, из-за чего некоторые так раздражаются. Зато другие как подсели на Роньшина еще во времена детективов из серии «Черный котенок», так и не могут, и не хотят соскакивать. Ведь это приятно, когда кто-то видит мир так же, как ты, а еще приятнее, что этот кто-то не просто констатирует, но и подбадривает: это ничего, мол, что жить страшно. Зато, с другой стороны, очень даже смешно.
«А что же есть?» — «А ничего нет»
Одна из первых публикаций Роньшина — подборка «Четыре рассказа» в журнале «Столица» (№ 37 (43), 1991). В первом тексте — «Не здесь. Не сейчас. И не с нами» — герой садится в поезд, чтобы уехать в Житомир, но по «москвапетушковской» традиции приезжает совсем не туда.
Сначала выясняется, что проводник в поезде не наливает чаю. И не потому что 1991 год и кризис, а потому что нам только кажется, что видимая реальность есть, а на самом деле ничего нет.
«За окнами вагона пробегали весна... лето... осень... зима...
— А на самом деле, — объяснял проводник, — нет ни зимы, ни весны, ни лета, ни осени.
— А что же есть? — удивлялась старушка и усиленно размахивала веером.
— А ничего нет. <...>
Когда мы подъехали к Житомиру, то его на месте не оказалось. Перед нами растиралась безбрежная ПУСТОТА.
— Где мы? — ахнули мы.
— НИГДЕ! — сказал наш проводник».
Ассоциации с пелевинской «Желтой стрелой» понятны и уместны, только стоит учесть, что впервые она была опубликована в 1993-м — два года спустя.
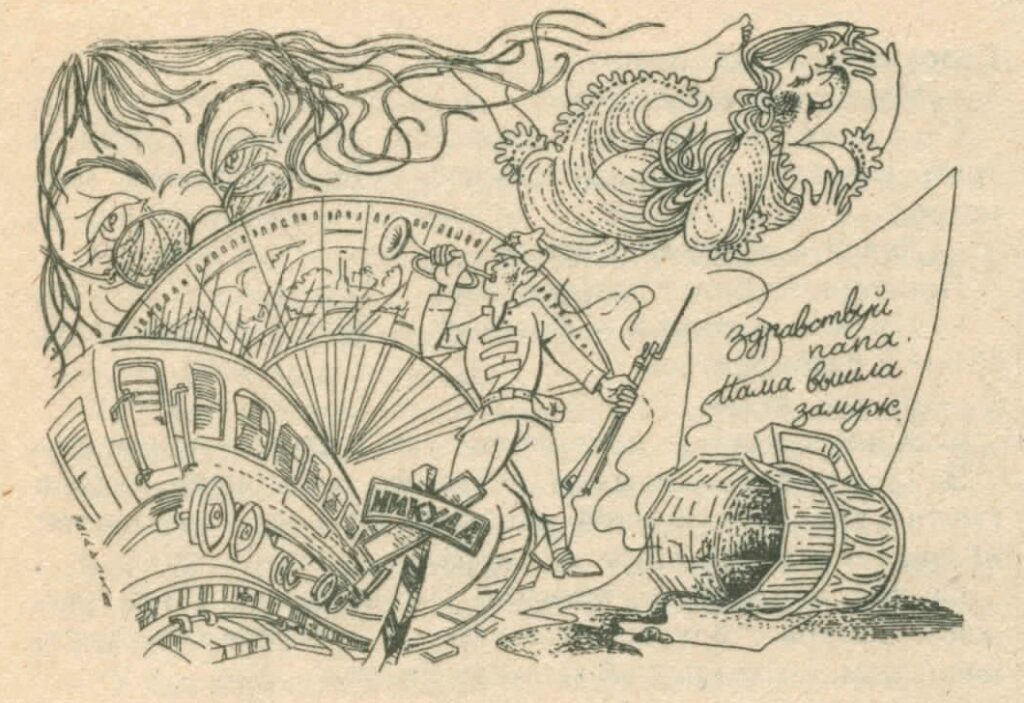 Иллюстрация к рассказу «Не здесь. Не сейчас. И не с нами» в журнале «Столица» (№ 37 (43), 1991)
Иллюстрация к рассказу «Не здесь. Не сейчас. И не с нами» в журнале «Столица» (№ 37 (43), 1991)
Позднее к железнодорожным сюжетам Роньшин возвращался неоднократно, уравновешивая соответствующей абсурдной формой ту прямолинейность, с которой он, порой не заморачиваясь подтекстами, обрушивает на читателя «пустотные» смыслы. Примечателен рассказ «Как следователь Тряпкин вместо Москвы попал в жопу» из середины 1990-х. Здесь к русской плацкартной тоске прибавились детектив и научная фантастика — типично роньшиновский контрастный коллаж.
Завязка: самый главный генерал сообщает Тряпкину, что пассажирские поезда, следующие по маршруту Петербург — Москва, перестали доезжать до Москвы, а вместо этого начали бесследно исчезать. Тряпкин приступил к расследованию: сел на поезд и поехал. Едет-едет — ничего не происходит. Доехал до Москвы. Выходит и видит, что это никакая не Москва, а фейк — стенка с нарисованным на ней вокзалом. А за ней то самое, что обещали в заголовке, — другая планета, населенная гигантскими разумными тараканами. Оказывается, это они так подстроили, что поезда из Петербурга идут не в Москву, а к ним, чтобы обращать пассажиров в рабство.
«Рядом со следователем Тряпкиным шел самый крупный таракан, видно — начальник над остальными.
— Слышь, мужик, — по-простому интересуется Тряпкин. — Это как же понимать?.. Это где ж мы находимся?..
— В Глубокой Жопе вы находитесь, — отвечает ему таракан.
— А идем куда? — снова интересуется Тряпкин.
— Куда всегда шли — туда и сейчас идете, — говорит таракан и мохнатой лапой на два черных солнца указывает. — В светлое будущее».
Еще одна трансформация истории с поездом происходит в журнале «Наша улица» (№ 140 (7), 2011). Герой рассказа с чеховским заглавием-призывом «В Москву!.. В Москву!.. В Москву!..» решает до этой самой Москвы добраться. Как ни странно, ему это удается, вот только Москва, в соответствии с заветами дедушки Линча, оказалась совой, то есть не тем, чем кажется.
«Поцелуев вышел на дощатый перрон. Сырость проняла его насквозь. Вокруг раскинулось голое поле, местами изрытое, черное; мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвета небо... И, для полного счастья, старуха в поношенной фуфайке и резиновых сапогах.
— ЗдорОво, бабка, — вежливо поздоровался с ней Поцелуев. — А что это за станция такая?
— Москва, милок, — ответила старуха. — МОСКВА».
Разумеется, поезд — не обязательное условие для того, чтобы писать о пустоте. Тем более что дети катаются на поездах не так часто, как взрослые, — а им ведь тоже надо рассказать о том, что ничего нет. Возможно, так рассуждал Роньшин, когда придумывал рассказ «Красный телефон», впервые замеченный в сборнике «Синевласка, или Бензоколонка у старого кладбища» в 2001 году.
Начинается «Красный телефон» как классическая детская страшилка: мальчику по имени Вова на день рождения подарили игрушечный телефон. С тех пор каждую ночь ему звонит неизвестный и сообщает о будущей кончине одного из членов его семьи. Сначала погибает папа, затем мама, затем бабушка с дедушкой и тетя Тамара. Несложно догадаться, чем все это должно закончиться: юный читатель дежурно насторожен, но в принципе расслаблен и не ждет никаких сюрпризов. И вдруг Вова, словно взбунтовавшись против шаблонного фатализма, разбивает телефон на куски.
Внутри телефона обнаруживается муж тети Тамары, дядя Гриша, который рассказывает, что все прочие родственники не умерли: просто дядя Гриша их уменьшил, чтобы кормить аквариумных рыб. Все, конечно, возмущены дядиным поведением, но, после того как дядя Гриша в ответ упрекает всех в эгоизме, соглашаются пойти на корм, чтобы не дать рыбкам умереть от голода. И тут сюжет резко уходит в экзистенциальное пике:
«— Постойте! — вдруг спохватилась мама и посмотрела на дядю Гришу. — Григорий Евграфыч, у вас же нет никаких рыбок!
— А я хочу купить, — отвечает дядя Гриша. — Давно мечтал, да все денег не было.
— Так их и в магазине нет, — вспомнила бабушка.
— Да и магазина нет, — вспомнил дедушка.
— А мы-то хоть есть? — спрашивает тетя Тамара.
— Нет, — говорят все. — Нас нет.
— Как это — нет? — растерялся Вова. — Мама!
— Я не мама, — отвечает мама.
— А кто же ты?
— Никто».
Аналогичные ответы Вова получает от папы, бабушки с дедушкой и тети Тамары с дядей Гришей, а после обнаруживает, что и его самого тоже нет. На этом Роньшин завершает рассказ, оставляя читателя в оглушительной пустоте, возникшей после резкого схлопывания вселенной. Что, конечно, гораздо страшнее, чем любой телефон, пусть даже самый кровожадный.
«С одной стороны — мы дома сидим, с другой стороны — мы едем»
В «Красном телефоне» все зовут дядю Гришу просто по имени. Только однажды мама обращается к нему по имени-отчеству: «Григорий Евграфыч». К чему бы это? Еще и отчество такое редкое. Явно не случайность.
Переместимся в другое измерение — во вселенную роньшиновского детектива. Здесь ученики средней школы выводят на чистую воду взрослых преступников с «детскими» кличками типа Буратино и Красная Шапочка или раскрывают международные тайны — от «Тайны зефира в шоколаде» до «Тайны кремлевского водопровода».
Помогают им в этом наиболее одаренные взрослые. В частности, милиционер по прозвищу Суперопер, а по взаправдашнему имени — Молодцев Григорий Евграфович.
Получается, что мир Роньшина, если воспользоваться модным астрономическо-культурологическим словцом, — большая мультивселенная. В одной из вселенных у Евграфа родился сын-милиционер, в другой — преступник, похититель-уменьшитель близкой родни, но оба они — стороны одной монеты, которую Роньшин подбросил в воздух, и она, словно чашка из его же миниатюры «Чего только в жизни не бывает», застыла в воздухе и до сих пор висит. Если читать только детективы или только страшилки Роньшина, об этом можно и не узнать. Но, когда узнаешь, лишний раз вспоминаешь, как же тонка грань между добром и злом, да и вообще между разнонаправленными мирами.
 Практически в каждом тексте Роньшина можно найти «портал», ну или гиперссылку (повторяющиеся имя, реплику или целый кусок текста), которая перебрасывает нас в совершенно другой текст — если, конечно, мы его уже читали. Чем больше знакомишься с Роньшиным, тем шире становится мультивселенная, а скачки через порталы — все более частыми. Очень волнующий и затягивающий процесс.
Практически в каждом тексте Роньшина можно найти «портал», ну или гиперссылку (повторяющиеся имя, реплику или целый кусок текста), которая перебрасывает нас в совершенно другой текст — если, конечно, мы его уже читали. Чем больше знакомишься с Роньшиным, тем шире становится мультивселенная, а скачки через порталы — все более частыми. Очень волнующий и затягивающий процесс.
Вот еще пример. Сравним две сцены: из детского детектива «Руки вверх, Синяя Борода!» и из взрослой повести «Корабль, идущий в Эльдорадо». Сначала детектив:
«На потолке сидел солнечный зайчик. Увидев, что Лика проснулась, он спрыгнул на одеяло. „Привет“, — сказал зайчик. „Привет“, — ответила Лика, ни капли не удивившись тому, что солнечный зайчик умеет разговаривать. Осторожно, чтобы его не спугнуть, Лика протянула руку и погладила зайчика по мягкой и теплой шерстке.
В ту же секунду Лика проснулась окончательно».
А теперь взрослая повесть:
«На потолке сидел солнечный зайчик. Увидев, что я проснулся, он спрыгнул на пол и робко приблизился к кровати. Я осторожно, чтобы не спугнуть, протянул руку и ласково погладил его по мягкой и теплой шерстке.
В ту же секунду я проснулся окончательно. Моя рука лежала на Иринином лобке.
— Солнечный зайчик, — произнес я.
Ирина открыла глаза.
— Что ты сказал? — улыбнулась она.
— Я говорю, что это — солнечный зайчик, — взъерошил я ее кучерявые волосики».
Есть что-то изумительное в эфемерной, но безусловной взаимосвязи, которая взяла и возникла между двумя совершенно непохожими мирами: в одном школьница наслаждается летними каникулами, в другом мужчина любуется женщиной, а точка пересечения — солнечный зайчик.
Иногда попутешествовать между вселенными автор позволяет не только читателю, но и своим персонажам. В повести «Миссия говорящей головы» главная героиня по имени Любка Крутая получает задание от ФСБ — отправиться в перпендикулярный мир, обитатели которого задумали уничтожение нашей Земли. Казалось бы, неразумно доверять столь ответственное дело школьнице, но другого выхода нет. Ведь Любка, как сумела выяснить служба безопасности, — это не просто Любка, но еще и «точка соприкосновения двух миров, нашего и перпендикулярного». То есть все работает примерно так же, как при чтении, только теперь уже не мы мысленно перемещаемся из текста в текст, а Любка с помощью медитации оказывается в затейливо устроенной действительности, где школьникам за плохие отметки отрубают головы, тело можно поменять так же легко, как платье, а точное время узнают при помощи говорящих рыб, в которых вмонтированы часы.
Приятель Любки из перпендикулярного мира, Гошка Эйнштейн, оказывается крупным специалистом по параллельным мирам и перемещениям между ними. С его помощью Любка узнает, что путешествовать по мультивселенной нужно через искусство — долго вглядываясь в картину из Русского музея, пока она не начнет вглядываться в тебя.
Правда, в дальнейшем очень по-роньшиновски выясняется, что никакого Гошки нет, а весь перпендикулярный мир — сложноорганизованный сон, в который Любку погрузили враги человеческой цивилизации. Но это ведь совсем не значит, что Гошка Эйнштейн дал Любке плохой совет. Разве для того, чтобы давать хорошие советы, обязательно обитать за пределами сна?
Сны у Роньшина исполняют роль альтернативной реальности очень часто. В рассказе «Девочка Настя + бабушка Настя» главная героиня никак не может понять, то ли она девочка, которой порой снится, что она старуха, то ли она старуха, которая во снах видит себя девочкой. При всей простоте сюжетной конструкции текст оставляет тревожное ощущение неразрешимости и наглухо запароленного мироздания. Автор предлагает читателю выбрать самостоятельно, какая из Насть настоящая, тем самым не только намекая на то, что точного ответа нет (ведь нас просят не догадаться, а именно выбрать, ткнуть наугад), но и уравнивая сон в правах с явью.
В сказке-страшилке «Детский садик № 13» попытки родителей разыскать пропавшего сына приводят к тому, что одна явь-истина сменяет другую, и так до бесконечности, пока один из вариантов правды — пожалуй, самый сновидческий и странный, но в целом произвольный — не становится конечным. И не потому, что именно он означает «пробуждение», а просто ну надо же где-нибудь поставить точку. Не зря очень многие и даже незнакомые друг с другом роньшиновские персонажи иногда напевают одну и ту же песенку: «С одной стороны — мы дома сидим, с другой стороны — мы едем».
Целый корпус текстов Роньшина рассказывает о героях, которые перестают различать явь и сон — из-за черной магии, враждебных шпионских организаций или по другим причинам. Иногда автор показывает нам под конец, где он зарыл собаку, но внешний вид и повадки этой отрытой собаки зачастую не так интересны, как предшествующее канатоходческое покачивание на границе реальностей.
Автор и сам готов признать: смотреть сны гораздо занимательнее, чем просыпаться и узнавать, как оно все есть на самом деле. После захватывающих приключений в мире сна кульминация у Роньшина нередко напоминает сознательный саботаж против необходимости такую кульминацию выдумывать. Например, взрослые дяди из ФСБ могут просто не взять главных героев-подростков на финальную битву добра со злом, позднее пересказав ее в двух словах в эпилоге. А описывая финального «босса» в повести «Кладбище кукол», Валерий Михайлович поступает как Гомер, который не стал придумывать внешность для троянской Елены, сказав, что Прекрасная — и все дела.
«Земля вздыбилась, и на ее поверхности показалась ТАКА-А-Я образина, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Поэтому и не будем описывать».
«Отдай свое сердце», «Кладбище кукол», «Тайна прошлогоднего снега», «Кошмары станции „Мартышкино“» — прекрасные образцы роньшиновского визионерства. В них абсурд смешивается с палп-фикшном, а авторская фантазия увлекает не потому, что мы совершаем традиционный сюжетный поход за истиной и жаждем разрешения интриги, а по принципу калейдоскопа: мы вглядываемся в странное мерцание узоров, которое, может быть, что-то значит, а может быть, и нет. Главное — что интересно и, пожалуй, даже красиво.
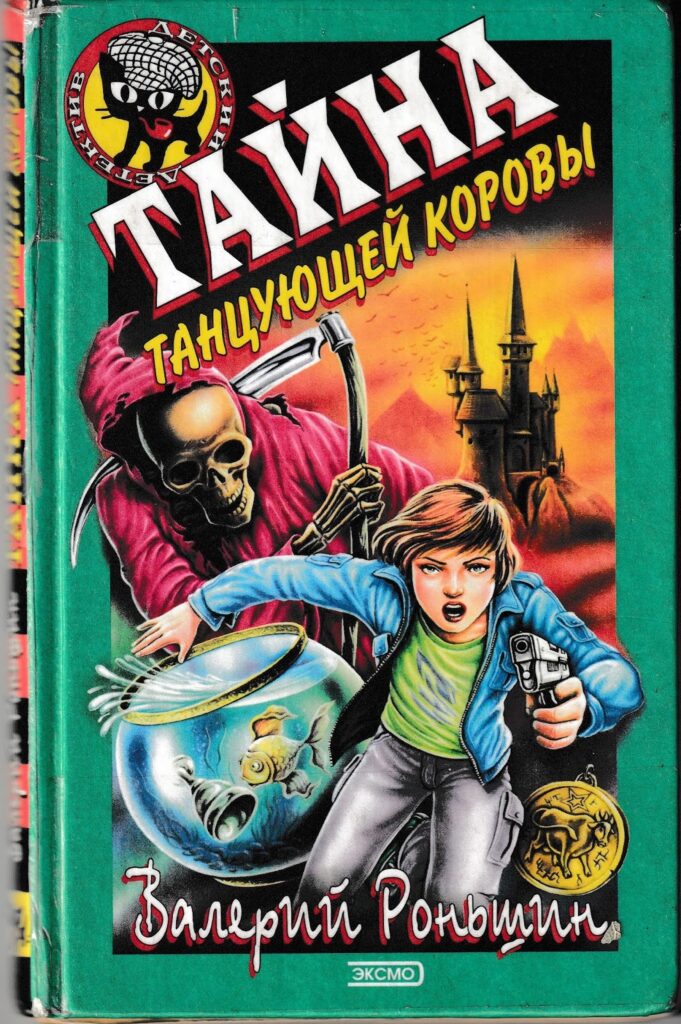 А еще напоминает фильм «Смысл жизни по Монти Пайтону», где после двухчасового шоу с песнями и танцами, нам наконец сообщают: смысл жизни в том, чтобы быть вежливым, иногда читать хорошие книжки и жить в мире и согласии с людьми всех наций и вероисповеданий. Разве плохо?
А еще напоминает фильм «Смысл жизни по Монти Пайтону», где после двухчасового шоу с песнями и танцами, нам наконец сообщают: смысл жизни в том, чтобы быть вежливым, иногда читать хорошие книжки и жить в мире и согласии с людьми всех наций и вероисповеданий. Разве плохо?
У Роньшина, кстати, можно найти кое-что очень похожее:
«На Эвересте мы нашли послание из далекого будущего. Потомки нам, своим предкам <...> советуют делать по утрам зарядку, не ругаться друг с другом, не сорить на улицах, побольше улыбаться...»
«Мы все давно мертвы»
Одна из важнейших тем для Валерия Михайловича — тема смерти. Едва ли не каждый второй его герой хотя бы раз обнаруживал, что уже умер, но почему-то все еще живет. Программный текст по теме, входящий во взрослый сборник «Осенний карнавал Смерти», так и называется — «Мы все давно мертвы». Но иногда бывает, что погибший персонаж воскресает нарочито фантастическим способом — как, например, Немухин в «Тайне одноглазой Джоконды»:
«— Вы?! — ахнула я.
— Я, — улыбался Немухин.
— Но... как же так? — Я была просто в шоке. — Вас же Лола убила. Вы же... умерли.
— Ничего подобного. Я понарошку умер.
— Понарошку?! — вскричала я. — А кровь на рубашке, а дырки от пуль?.. Это тоже понарошку?!
— Тоже, — подтвердил Немухин. — Пули были растворимыми.
— Как это растворимыми?
— Ну кофе же бывает растворимым».
Снова амбивалентность бытия по-роньшиновски. С одной стороны, все бывает, а с другой — ничего не существует. С одной стороны, сон — это тоже явь, а с другой, явь — это такой сон. И вот, наконец, жизнь — это смерть, а смерть — это жизнь. «Я — это ты, ты — это я». «То ли есть то место, али его нет».
Есть в мультивселенной Роньшина и специальная Зона — единственное место в мире, где можно умереть не умирая. Есть, в конце концов, майор Гвоздь, который устраивает себе прижизненные похороны, а на следующий день как ни в чем не бывало сидит на могилке и курит сигаретку. Ну просто мечта агностика.
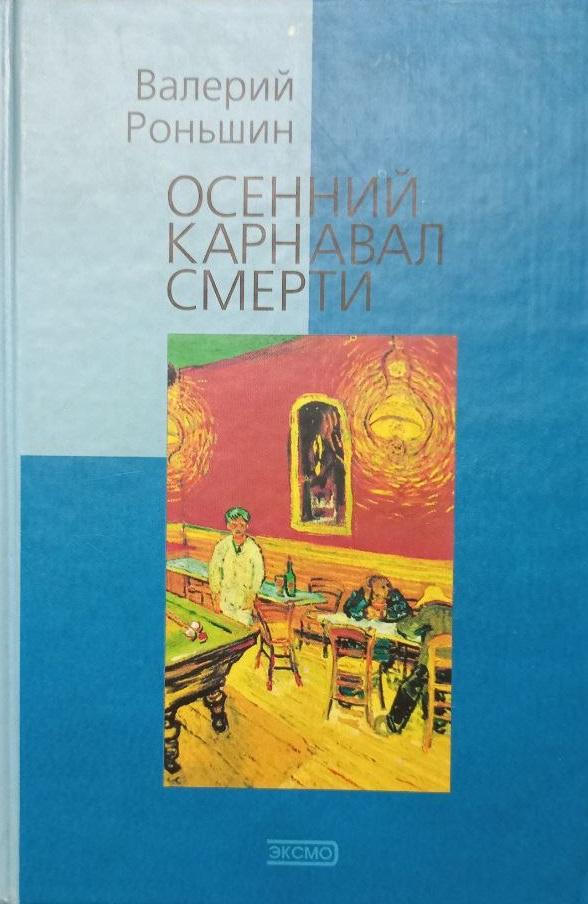 Что же такое свершившаяся смерть, по Роньшину? Прекрасная гипотеза предлагается в «Кошмарах станции „Мартышкино“». Тимыч отправляется в гости на Тот Свет, чтобы навестить родителей, и обнаруживает, что загробный мир ничем не отличается от «предгробного». Разве что названием.
Что же такое свершившаяся смерть, по Роньшину? Прекрасная гипотеза предлагается в «Кошмарах станции „Мартышкино“». Тимыч отправляется в гости на Тот Свет, чтобы навестить родителей, и обнаруживает, что загробный мир ничем не отличается от «предгробного». Разве что названием.
«— Значит, это и вправду Тот Свет? — обрел наконец Тимыч дар речи.
— Тот, Тот, Тимоня, не сомневайся, — сказал отец. И добавил: — Кто бы мог подумать, что он окажется точной копией Этого.
— Да уж, — со смехом подхватила мать. — Люди во все века головы ломали: куда же это человек после смерти попадает? А оказывается, вот куда, — она описала круг рукой, — в свою собственную квартиру.
— А здесь, на Том Свете, уже никто не умирает? — поинтересовался Тимыч.
— Еще как умирают, — сказала отец. — Больше, чем на Этом.
— А если тут умрешь, то куда тогда попадаешь?
— На Этот Свет».
Здесь Тимыч с родителями принимаются спорить, как правильно: для тех, кто уже умер, Тот Свет — это Этот Свет, а Этот Свет — Тот? Или для всех Тот Свет — Тот, а Этот — Этот. Попробуй не запутайся. Всех выручает пришедшая с кухни бабушка:
«— Ой, да какая разница, внучок, — махнула она рукой. — Тот не Тот, Этот не Этот. Идемте лучше блинчики со сметанкой лопать.
И все дружно отправились на кухню есть блины со сметаной».
Как говорится, «и все пошли пить чай». И в этом, пожалуй, квинтэссенция взаимоотношений лирического героя Роньшина со смертью и другими вечными ценностями. Это ценности ведь приходят и уходят, а блинов со сметаной хочется всегда. И не потому, что блины вкуснее, а потому что блины, возможно, и есть ответ. Как писал Николай Олейников о селедке, лежащей на тарелке: «...не спеши ее отправить в рот / Гляди, гляди! Она тебе сигналы подает».
Похожая штука происходит в рассказе «Гороховый суп». Герой обнаруживает на кухне своего дедушку, который ест этот самый суп, — ничего особенного, не считая того, что дедушка уже давно умер, о чем внук ему и сообщает. Однако дедушка считать себя умершим отказывается и говорит, что все было совершенно наоборот: это внук попал под машину и погиб. А с дедом ничего такого не приключалось.
«Мы заспорили, и спорили до тех пор, пока дедушка не сказал:
— Да ладно тебе, внучек. Какая в принципе разница <...>? Давай лучше супчик есть. А то остынет.
И мы стали есть гороховый суп».
Здесь опять тянет возвратиться к размышлениям о мультивселенной, — наверняка дедушка попал в кухню из другой реальности из-за очередного пересечения измерений. Но если и так, что ж теперь делать? Да ничего, гороховый суп есть. Ну, правда ведь, очень даже значительное и замечательное занятие.
Опять же, как писал Роньшин, «...все в мире взаимосвязано <...> если у вас болит правая пятка, то, возможно у вас что-то с левым ухом». Это означает в том числе и то, что мир никогда не изменится к лучшему, если вы не будете делать то, что выпало именно на вашу долю. Например, есть с покойным дедом (или в одиночестве, тут уж как получится) ваш гороховый суп. Приглядитесь: прямо у вас под носом вам подают сигналы. Вы просто их не замечаете.
