Стигма жанровой прозы
Беседа с победителями литературной премии «Новые Горизонты»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Василий Владимирский: Ваше обращение к нереалистической прозе — это пресловутое «бегство от реальности», попытка перейти в разговоре с читателем на эзопов язык, что-то еще? Чем не угодил старый добрый реализм, чего в нем не хватает?
 Алексей Сальников: В моем случае творчество — не совсем сознательный процесс. В голову приходит идея, вот и все. А идея ли это фантастического произведения, или замысел текста реалистического — дело второе. Просто чисто статистически так выходит, что более-менее крупные штуки у меня получаются в жанре, который реализмом назвать трудно, а вот рассказов о современности, где никакого фантастического элемента не имеется, у меня почему-то навалом. Не пытался анализировать, честно говоря. Возможно, у меня это проистекает из попытки рационализации действительности. Все мне кажется, что события происходят не просто так, а есть у них рациональные причины, которые можно объяснить в нескольких словах. Вот и объясняю. Отчасти самому себе.
Алексей Сальников: В моем случае творчество — не совсем сознательный процесс. В голову приходит идея, вот и все. А идея ли это фантастического произведения, или замысел текста реалистического — дело второе. Просто чисто статистически так выходит, что более-менее крупные штуки у меня получаются в жанре, который реализмом назвать трудно, а вот рассказов о современности, где никакого фантастического элемента не имеется, у меня почему-то навалом. Не пытался анализировать, честно говоря. Возможно, у меня это проистекает из попытки рационализации действительности. Все мне кажется, что события происходят не просто так, а есть у них рациональные причины, которые можно объяснить в нескольких словах. Вот и объясняю. Отчасти самому себе.
Татьяна Замировская: Я как раз в своем романе очень даже реалист и никуда не убегала, наоборот, решила наконец-то встретить реальность лицом к лицу. В последние годы в связи с эмиграцией меня волновала проблема памяти (цифровой vs биологической, каждая из которых по-своему хрупка и разрушаема), цифрового спиритизма, а также цифрового горевания — многие смерти друзей мне приходилось проживать дистанционно, в цифровом формате. Плюс цифровое общение как единственная возможность «увидеться» с близкими и любимыми людьми. На расстоянии мы можем общаться с близкими только как с цифровыми их версиями (видео, текст, медиум), но в случае достижения технологиями такого уровня (а это будет скоро), что с мертвыми можно будет общаться точно так же (чатиться текстом с ними можно уже сейчас, а скоро будет и видео), в чем разница между общением с живым человеком и мертвым, если оба одинаково недоступны и обоих ты не можешь обнять, но оба при этом — текст, видео и интерактивное общение? Теперь это всеобщая проблема в каком-то смысле. И вот об этом я и писала текст: о том, что после эмиграции ты для всех близких — немножко далекий цифровой мертвый; о том, что мы являемся последним в истории человечества поколением, у которого есть свои не-цифровые дорогие мертвые, после которых остались не чаты и фоточки в айфоне, а черно-белые фотографии, бумажные дневники и живые воспоминания, которые умрут вместе с нами.
 Мы своего рода капсулы времени — как нам сохранить этих не-цифровых мертвых? Можем ли мы их оцифровать и нужно ли это? И как быть с тем, что ты сам — это что-то, что может быть оцифровано либо умрет как биологический объект навсегда? А если ты решишь остаться после смерти цифровой копией себя — будет ли у этой копии сознание? А что, если она будет считать, что она и есть — ты? Ой, о таком мы не думали, понятное дело. Мы всегда думаем о себе в первом лице, это именно мы будем длиться вечно. Увы, мы погаснем, как свеча, а то, что станет жить дальше вечно вместо нас, будет считать, что оно всегда было нами. Поверить в это невозможно, и, когда вы это читаете, у вас в голове пустота, отрицание и неверие. Цифровое бессмертие — всегда в первом лице. Ну-ну. Удачи.
Мы своего рода капсулы времени — как нам сохранить этих не-цифровых мертвых? Можем ли мы их оцифровать и нужно ли это? И как быть с тем, что ты сам — это что-то, что может быть оцифровано либо умрет как биологический объект навсегда? А если ты решишь остаться после смерти цифровой копией себя — будет ли у этой копии сознание? А что, если она будет считать, что она и есть — ты? Ой, о таком мы не думали, понятное дело. Мы всегда думаем о себе в первом лице, это именно мы будем длиться вечно. Увы, мы погаснем, как свеча, а то, что станет жить дальше вечно вместо нас, будет считать, что оно всегда было нами. Поверить в это невозможно, и, когда вы это читаете, у вас в голове пустота, отрицание и неверие. Цифровое бессмертие — всегда в первом лице. Ну-ну. Удачи.
Плюс к этому: как нам выработать новые практики цифрового горевания во времена, когда все больше похорон и прощаний происходит виртуально? Я уже была на нескольких. Плюс: цифровое воскрешение очень близко к цифровому спиритизму (даже слово «медиум» может тут читаться как метафора), и теперь об этих вещах пишет все больше исследователей, поскольку «танатоботы» (так сейчас называют нейросетки, которые говорят с вами от имени мертвых, научившись на текстах мертвых) — уже доступная и привычная технология. Да, когда я писала роман, нейросети еще не находились на таком уровне развития, это был 2019—2020 год, но я глубоко исследовала эти темы (уже тогда был бот «Реплика», а также «Проект Декабрь», плюс Маск очень много писал о своих ИИ-разработках — ну это навскидку примеры, множество всего существует), и было понятно, что я пишу о настоящем. Просто, чтобы на момент публикации романа быть в тренде, надо было заглядывать лет на 10 в будущее, что я и сделала.
В «Смерти.net» идет речь о настоящем, это 2030–2040-е. Человечество прошло через Третью мировую и страшную пандемию (я закончила первый драфт романа в 2019-м, до ковида), и цифровое воскрешение, как и изначальная первая волна спиритизма, поднявшаяся в начале ХХ века после Первой мировой, стало способом справиться с болью от потери огромного количества людей. Смерть стала настолько обыденной, привычной и все равно страшной, что технологии оказались единственным способом как-то притвориться, что не все на этом заканчивается и что с мертвыми близкими можно связаться. В ХХ веке последователи Константина Раудива ловили голоса в «белом шуме», потому что это круче уиша-бордов и столоверчения — технологии! Достижения! Прогресс! — а в XXI веке у нас будут интернет-призраки и интернет-спиритизм. То есть почему будут, они уже есть. В 2001 году я постоянно болтала с ИИ-ботом мертвого Джона Леннона, и для меня это, безусловно, был спиритический сеанс. Еще раньше я писала исследовательские статьи о том, что интернет весь населен демонами и мертвецами, потому что воскрешение — это всегда текст и дата, а интернет — это текст и дата, и где же еще нам всем воплощаться после смерти, если не там. Одна проблема, группа «Благодарные мертвецы», на музыке которой я выросла, тоже быстро просекла эту фишку, поэтому заняла домен The Deadnet еще тогда, на заре интернета.
Черт, вот я рассказала про зарю интернета, и теперь все знают, что я не молодой двадцатилетний писатель, ворвавшийся в будущее с текстами про будущее, а бывалый психонавт-реалист, стоявший у истоков! Ну что ж.
 Дмитрий Данилов: Я считаю свою прозу вполне реалистической и к жанру фантастики ее не отношу. В моем представлении, фантастика — это произведения, описывающие далекое будущее, в котором вымышленное человечество обладает принципиально новыми научно-техническими возможностями и живет каким-то совершенно невиданным социально-политическим укладом. Ничего такого в моем романе нет, там описывается практически наше с вами общество, где произошли некоторые, пусть и важные, изменения в законодательстве. Это не фантастика, как не фантастика, например, «День Опричника» Владимира Сорокина.
Дмитрий Данилов: Я считаю свою прозу вполне реалистической и к жанру фантастики ее не отношу. В моем представлении, фантастика — это произведения, описывающие далекое будущее, в котором вымышленное человечество обладает принципиально новыми научно-техническими возможностями и живет каким-то совершенно невиданным социально-политическим укладом. Ничего такого в моем романе нет, там описывается практически наше с вами общество, где произошли некоторые, пусть и важные, изменения в законодательстве. Это не фантастика, как не фантастика, например, «День Опричника» Владимира Сорокина.
Тим Скоренко: В моем случае это буквально ошибка. Обещаю больше так не делать.
 Василий Владимирский: В финал «Новых Горизонтов» в юбилейном сезоне прошло четыре романа-антиутопии — а если «с элементом антиутопии», то, пожалуй, это все пять романов-финалистов. Почему так случилось спрашивать не буду, спрошу о другом. Считается, что у каждого автора антиутопии где-то в голове существует образ идеального мира, матрица, от которой он отталкивается, сочиняя свою «негативную утопию». Каким, на ваш взгляд, должен быть этот самый «мир будущего, в котором хочется жить»? Хотя бы в двух словах?
Василий Владимирский: В финал «Новых Горизонтов» в юбилейном сезоне прошло четыре романа-антиутопии — а если «с элементом антиутопии», то, пожалуй, это все пять романов-финалистов. Почему так случилось спрашивать не буду, спрошу о другом. Считается, что у каждого автора антиутопии где-то в голове существует образ идеального мира, матрица, от которой он отталкивается, сочиняя свою «негативную утопию». Каким, на ваш взгляд, должен быть этот самый «мир будущего, в котором хочется жить»? Хотя бы в двух словах?
Алексей Сальников: Для меня идеальный мир, где ученые все же нашли инструментарий для познания квантового мира и больших процессов во Вселенной и выяснили, что мы не заперты в остывающей кубышке, из которой нет выхода. В ином случае наше существование вообще не имеет смысла!
Татьяна Замировская: Я тут спойлер тихонечко положу, но у меня в романе все-таки, как мне кажется, хэппи-энд, и это и есть моя утопическая модель будущего, которое мы можем не потерять, — абсолютная сингулярность, где все со всем связано, все на все влияет, ничего никуда не исчезает и все сущее есть текст, а Бог — это память.
Ну и еще важное: в идеальном будущем вопрос авторства этого текста будет решен более-менее окончательно, и самым прекрасным и ненасильственным образом. Потому что автор точно есть.
 Дмитрий Данилов: У меня в голове нет образа никакого идеального мира, идеальный мир был в раю до Адамова грехопадения. Если говорить о мире просто желаемом, то хотелось бы, что этот мир был достаточно свободным и безопасным, насколько это возможно.
Дмитрий Данилов: У меня в голове нет образа никакого идеального мира, идеальный мир был в раю до Адамова грехопадения. Если говорить о мире просто желаемом, то хотелось бы, что этот мир был достаточно свободным и безопасным, насколько это возможно.
Василий Владимирский: О реалистической литературе принято судить по лучшим примерам: никому не придет в голову наугад выдернуть первый попавшийся роман с «Прозы.ру» и объявить его «типичным образчиком» — скорее вспомнят Чехова, Достоевского, Толстого, Гоголя. О фантастике часто судят по худшим образцам. Как считаете, чем вызван такой дисбаланс?
Алексей Сальников: Ой! Это прекрасный и очень смешной вопрос! Я с вами не согласен, Василий! Мне кажется, что люди, которые хоронят современную литературу, накидывают глины лопатой сразу на всех современных писателей скопом. Есть люди, которым все равно, кто там что пишет. Они все равно не те глыбы, что были раньше, — куплены, обмануты, глупы, непатриотичны (или, наоборот, патриотичны чересчур). Литература, как мне кажется, устроена так, что книги ругают ровно за то, за что их и любят. То есть, если много юмора, то обзовут зубоскальством, если написана лаконично — бедной стилистически, если в книге мало страниц, напишут, что это халтура, лишь бы отписаться от читателя, если книга толстая — обзовут тоскливым, неподъемным томом. Что-то в таком роде. Я и сам бываю такой. Однажды забыл взять в шестичасовой полет электронную книгу, купил книжку в аэропорту. Открыл после взлета, добрался до каламбура «седина в бороду — бес в пещеристое тело», закрыл и оставшиеся пять с половиной часов смотрел в иллюминатор. То есть поступил как комментатор в соцсетях: «Открыл, прочитал пару страниц, сразу все понял, закрыл и больше не открывал».
 Тим Скоренко: Эта ситуация характерна только для русского, по-моему, книжного пузыря. В первую очередь из-за того, что у нас нет четкой терминологии для жанров и слово «фантастика» сразу ассоциируется с жанровой беллетристической писаниной низкого уровня. Нет четких зонтичных категорий вроде speculative fiction, в фантастику валится и качественный magical realism (который в английской терминологии уходит в literary fiction, то есть высокохудожественную прозу, у нас презрительно именуемую «боллитрой»), и alt-lit и так далее.
Тим Скоренко: Эта ситуация характерна только для русского, по-моему, книжного пузыря. В первую очередь из-за того, что у нас нет четкой терминологии для жанров и слово «фантастика» сразу ассоциируется с жанровой беллетристической писаниной низкого уровня. Нет четких зонтичных категорий вроде speculative fiction, в фантастику валится и качественный magical realism (который в английской терминологии уходит в literary fiction, то есть высокохудожественную прозу, у нас презрительно именуемую «боллитрой»), и alt-lit и так далее.
Я не считаю себя фантастом и не называю себя фантастом, отчасти потому что в русской терминологии как-то укрепилось понимание, что фантастика — это не литература. Скажем так, если следовать этой терминологии, так оно и есть. Поэтому я — писатель, просто писатель, как «Бонд, Джеймс Бонд», и на деле из семи моих романов только три написаны в формате speculative fiction, «Ода абсолютной жестокости», «Законы прикладной эвтаназии» и «Стекло». Остальные четыре — тот самый magical realism, который из группы literary fiction («Легенды неизвестной Америки» и «Переплетчик»), или alt-lit («Сад Иеронима Босха» и «Эверест»).
А термин «фантастика» — это как раз все эти ребята, издававшиеся в сериях «Фантастический боевик» и иже с ними. И да, это в основном за редчайшими исключениями, худшие образцы (имена особо перечислять нет смысла, они все на слуху). Так что все справедливо.
Татьяна Замировская: Это про русскую современную фантастику, наверное? Я, к сожалению, тоже натыкалась там в основном на какую-то боевую патриотическую хтонь про попаданцев. Но очень хочу разувериться и разубедиться! Тут может возникнуть вопрос: а где же я натыкалась на хтонь эту всю? А в книжном магазине на Брайтоне, куда мой роман подложили, — я его искала-искала и нашла на огромной полке с русской фантастикой, и у меня началась депрессия, когда я посмотрела, среди чего она лежит, господи боже мой милый, за что, почему.
С англоязычной фантастикой, в смысле sci-fi, проблем нет — как и с классикой (Филип К. Дик, Урсула Ле Гуин, Октавия Батлер, Сэмюэль Дилэни), так и с современной (Чайна Мьевилль, Тед Чан, Кадзуо Исигуро), ой, да и не с англоязычной тоже: Лю Цысинь же! То есть это я наугад имена написала, понятно, что тысячи их. Это авторы, которые влияли и влияют на современную культуру, по их текстам снимают фильмы и сериалы, они получают ведущие литературные премии, они не находятся в какой-то резервации для любителей странненького!
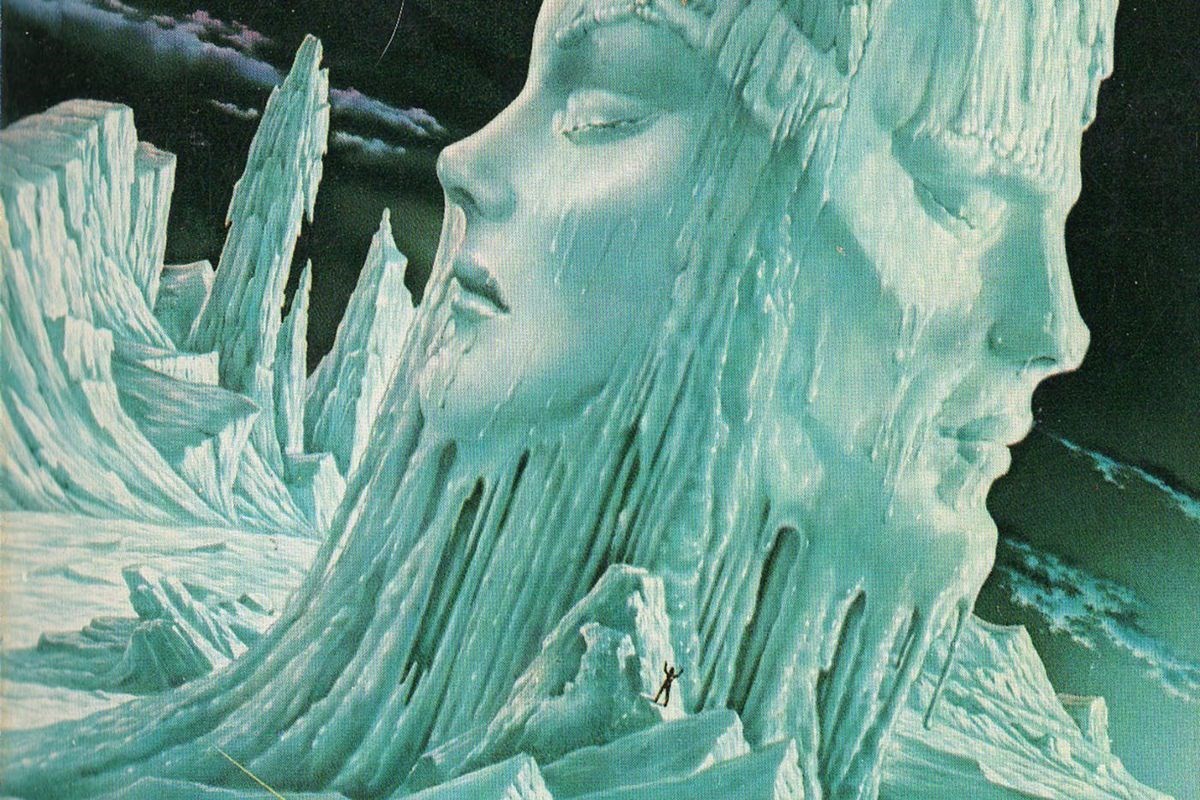 Может быть, дисбаланс вызван тем, что в русскоязычной книжной реальности фантастику помещают в жанровую литературу, а не в современную? Ну Пелевина и Сорокина считают современными писателями, которые просто пишут о реальности, и это правильно. Но почему, если Пелевин и Сорокин — это классная современная литература о происходящем здесь и сейчас, мой роман — это условная «фантастика», что-то нереальное, что надо срочно на полку к хтони с попаданцами? Думаю, это какая-то стигма жанровой прозы. А чтобы ее избежать, нужны как раз вот такие премии, как «Новые Горизонты», включающие условно «жанровую» литературу в современную актуальную, и — наоборот; как бы размывая эти границы.
Может быть, дисбаланс вызван тем, что в русскоязычной книжной реальности фантастику помещают в жанровую литературу, а не в современную? Ну Пелевина и Сорокина считают современными писателями, которые просто пишут о реальности, и это правильно. Но почему, если Пелевин и Сорокин — это классная современная литература о происходящем здесь и сейчас, мой роман — это условная «фантастика», что-то нереальное, что надо срочно на полку к хтони с попаданцами? Думаю, это какая-то стигма жанровой прозы. А чтобы ее избежать, нужны как раз вот такие премии, как «Новые Горизонты», включающие условно «жанровую» литературу в современную актуальную, и — наоборот; как бы размывая эти границы.
Дмитрий Данилов: Мне трудно об этом судить, я не слежу за миром фантастики. Могу только предположить, что в фантастике, как в любой жанровой литературе, может наблюдаться дефицит этих самых лучших примеров. Все большие фантастические тексты выламываются за рамки жанра, становятся чем-то большим, чем фантастика. Но это только мое предположение.
Василий Владимирский: Ну и вопрос скорее не как к писателям, а как к читателям «нереалистической прозы», хотя бы читателям эпизодическим. Какие тенденции в этой самой нереалистической прозе вы можете выделить, что вас огорчает, а что, наоборот, радует?
Алексей Сальников: Очень радует, что все о родном, о близком, про родные осинки. Такое немножко журналистское получается многое. А грущу о том, что исчезла мечта. Некая большая мечта. Герои заняты вопросами выживания среди вызовов, которые подкидывает технический прогресс. А хочется, чтобы и вызов технического прогресса, и загадка, и мечта. Как у Александра Полещука в «Ошибке инженера Алексеева», вышедшей в 1961 году, чтобы прямо обалдеть перед величием разума!
![]() Тим Скоренко: Меня ничего не огорчает и не радует. Если честно, мне совершенно безразлично, я вообще не слежу за литературным процессом. В последнее время я если что и читаю, то только неизвестную русскому читателю иностранную классику (вот сейчас Раффи, например: уверен, что никто из читающих этот текст даже не слышал такого имени) и еще немножко графические романы.
Тим Скоренко: Меня ничего не огорчает и не радует. Если честно, мне совершенно безразлично, я вообще не слежу за литературным процессом. В последнее время я если что и читаю, то только неизвестную русскому читателю иностранную классику (вот сейчас Раффи, например: уверен, что никто из читающих этот текст даже не слышал такого имени) и еще немножко графические романы.
Татьяна Замировская: Я уже непонятно какой страны представитель, поэтому отвечу сразу про три страны — по признакам языка, идентичности и локации (все три у меня не совпадают, драма!).
В российской литературе мне нравятся тенденции обращения к мифу и историческим травмам, но на глубоком, исследовательском уровне — это и Некрасова («Кожа»), и Рубанов, и Сальников, и Вера Богданова, и Рагим Джафаров — в общем, много имен, и все это в основном романы-исследования, которые не просто рассказывают и развлекают, а глубоко копают какую-то тему, которую без фантастического допущения не получится иначе раскопать. Ну и в основном это все про насилие на разных уровнях — и это мне кажется важным, что актуальная российская «нереалистическая» литература работает именно с реальностью насилия и деконструирует его через эти вот сказочные элементы.
В белорусской нереалистической прозе, например, немножко другая тенденция — там тоже идет работа с мифом и сказкой, но все это больше происходит в чуть архаичной уже риторике постмодерна (хотя я не против этой риторики и сама в ней работаю, оно уже как генетический год, неистребимое!) и связано с проблемой идентичности, поиска и потери себя, своего языка, своей культуры: это и Альгерд Бахаревич с его «Детьми Алиндарки», переведенными уже на несколько языков, а также эпичнейшим романом «Собаки Европы», и Виктор Мартинович («Мова»), и «Куды ідзеш, воўча» Евы Вежнавец (она определяет жанр этой книги как «болотная сказка»).
А что касается американских тенденций, то там как раз сейчас властвует тема памяти и смерти, бессмертия и воскрешения, призраков и теней предков, а также деколониальная тематика. Примеры нашумевших sci-fi бестселлеров — «The Seven Moons of Maali Almeida» Шехана Карунатилаки (метафизический триллер шри-ланкийского автора, буквально плавающий между всеми жанрами сразу: это и приключения в посмертии, и загробный детектив, и суровый реализм), «The Immortal King Raо» Ваухини Вары (авторка написала роман в память о своем отце-эмигранте, но без призраков и воскрешений он не писался никак, то есть фантастическая форма была единственным возможным типом высказывания на важную тему о прошлом — при этом там и пересадка памяти, и технологический капитализм, и вообще очень много всяких актуальных штук), а также победитель Pen Awards этого года «Доктор Нет» Персиваля Эверетта — то есть, буквально, одну из самых крутых литпремий в США взял межжанровый автор, который пишет очень изобретательную, социально заряженную и смешную до безумного фантастику (в этом романе речь идет про африканского профессора математики, изучающего ничто и являющегося крупнейшим в мире специалистом по ничему), который борет злодея, пытающегося похитить некий контейнер со зловредным ничем, который может превратить весь мир в ничто!