Справиться со страхами никому из нас не удастся
Интервью с филологом и фольклористом Александром Панченко
На днях вышло новое, расширенное издание книги Александра Панченко «Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура русских мистических сект»: по просьбе «Горького» о ней, а также о сопутствующих проблемах — о границах религии, нью-эйдже и постсоветских моральных паниках — поговорил с автором Лев Волошин.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
— Буквально неделю назад издательство «АЛЬМА МАТЕР» выпустило третье издание вашей книги «Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная культура русских мистических сект». В аннотации указано, что «в настоящем издании внесены существенные поправки и дополнения, основанные в том числе и на новых архивных находках автора». Первое и второе издания вышли с разницей в два года — в 2002-м и 2004-м. Почему именно сейчас, спустя почти четверть века, вы решили обновить информацию?
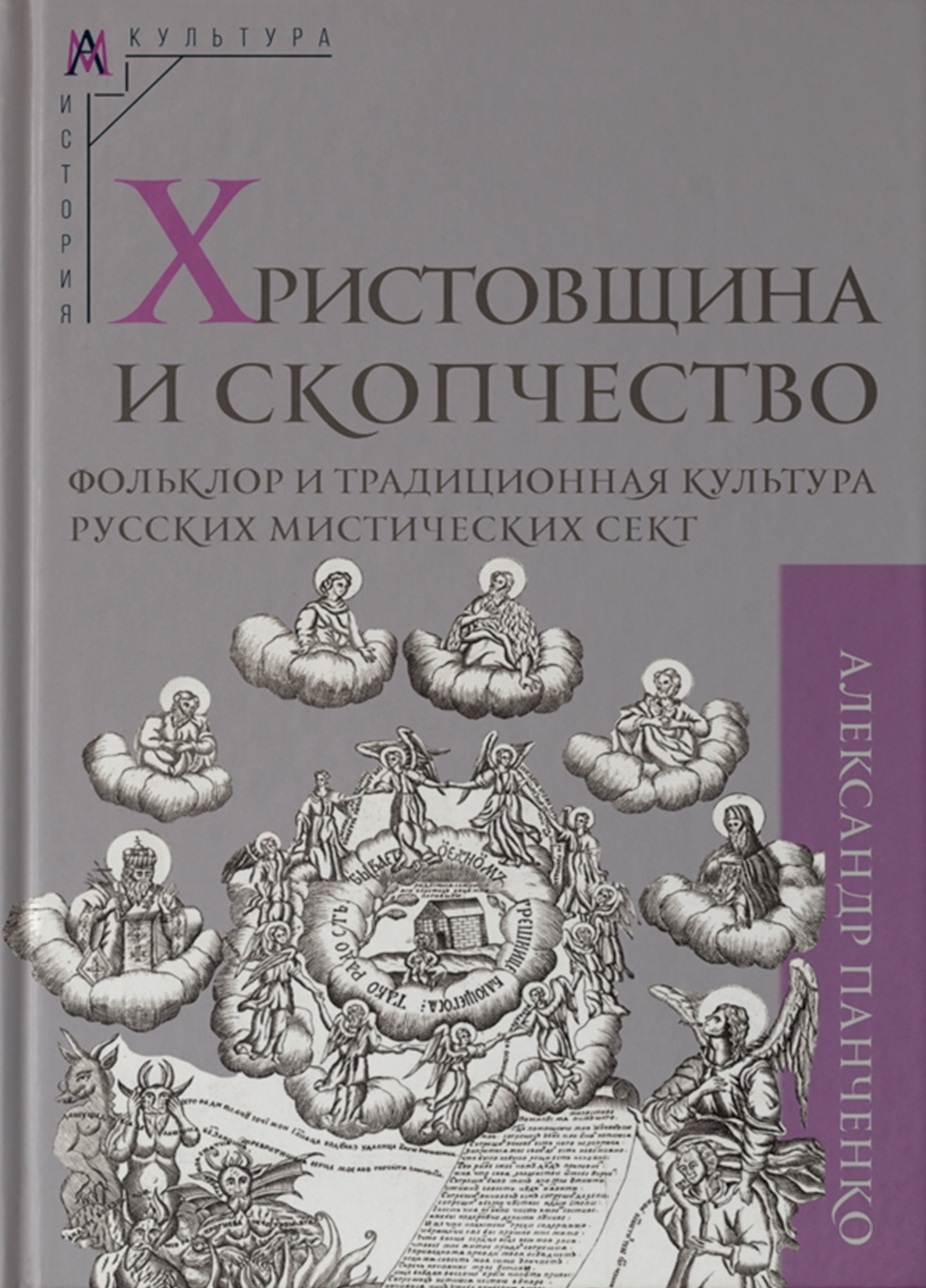
— Это была не моя инициатива, «АЛЬМА МАТЕР» просто предложило сделать переиздание. На самом деле второе издание отличалось только тем, что оно было в твердой обложке, а не в мягкой — макет был один и тот же. Что касается обновления — все наши книги в какой-то момент устаревают в теоретико-методологическом отношении, появляются новые идеи, новые теории, да и мы сами меняемся. Переписать целиком всю книгу, конечно, нереалистично, но, что касается фактографической стороны дела, прежде всего истории, — накопились кое-какие новые материалы. Не могу сказать, что на белом свете очень много специалистов именно по этой проблематике — конкретно по хлыстам и скопцам и вообще по так называемому старому русскому сектантству (нас всего-то несколько десятков), — но тем не менее по этой теме вышел ряд работ разных авторов. И конечно, мне захотелось эту фактографию немножко проапгрейдить, скажем так.
Кроме того, по разным причинам и в разных обстоятельствах я сам занимался дополнительными, в том числе и архивными, исследованиями — например, вопросами, связанными с интригующей историей скопчества на рубеже XVIII и XIX века, когда Кондратий Селиванов встречался с императором Павлом I, а потом и с императором Александром I. Там много фактов, которые были не до конца понятны. Кондратий Селиванов в то время жил в Иркутске при богадельне, и неизвестно, как он попал из Иркутска в Санкт-Петербург и встречался ли с Павлом, и почему, если встречался. В архиве Тайной канцелярии я обнаружил несколько дел, которые этот вопрос отчасти проясняют. Также благодаря архивной работе вышли на свет мелкие детали, и я внес изменения, которые просто немножко дополняют культурно-историческую часть книги. Поэтому, уж если есть возможность переиздания, я решил, что сделаю дополнения и поправки в надежде, что они будут полезны читателям, если у книги вообще найдутся читатели. В любом случае, в академическом плане тем, кто захочет сейчас сослаться на эту книгу, будет правильно ссылаться именно на это издание, а не на предшествующие.
— За это время, насколько я понимаю, никто фундементально хлыстов и скопцов так и не исследовал. Знаю, что у Андрея Бермана три года назад выходила не очень большая книга «Хлысты. Ранняя история самой известной русской религиозной секты».
— Вышли, собственно, две важные книги — упомянутая книга Бермана и книга Ксении Сергазиной «Хождение вкруг. Ритуальная практика первых общин христоверов». Берман не занимался дополнительной архивной работой — он живет не в Москве и не в Питере, и у него, наверное, нет возможности постоянно ездить и читать эти еще не до конца разобранные материалы XVIII века. Он, вероятно, ориентировался на уже существующие опубликованные материалы, но у него есть ряд интересных исторических идей. С чем-то я согласен, с чем-то нет — не буду сейчас сильно вдаваться в детали. С одной стороны, он пытался пересмотреть то, что я писал, а с другой — в его работе есть совершенно конкретные находки и идеи. А Сергазина как раз с архивными материалами работала довольно много, с материалами РГАДА и РГИА, но и она пыталась некоторые мои идеи пересмотреть. Для нее было очень важно, что последователи христовщины, по крайней мере московской христовщины первой половины XVIII века, были практически неотличимы от православных того времени и не считали себя какой-то альтернативой официальному православию. Но и с радикальными старообрядцами они тоже не были связаны, просто у них сформировались специфические практики аскезы — вот и все отличия. Я с этим тоже не очень согласен, и свои впечатления от трудов Бермана и Сергазиной я постарался отразить во вступлении к новому изданию. Ситуация, конечно, немножко шизофреническая — они ведут диалог с предыдущим изданием моей книги, а я в новом издании веду с ними новый диалог.
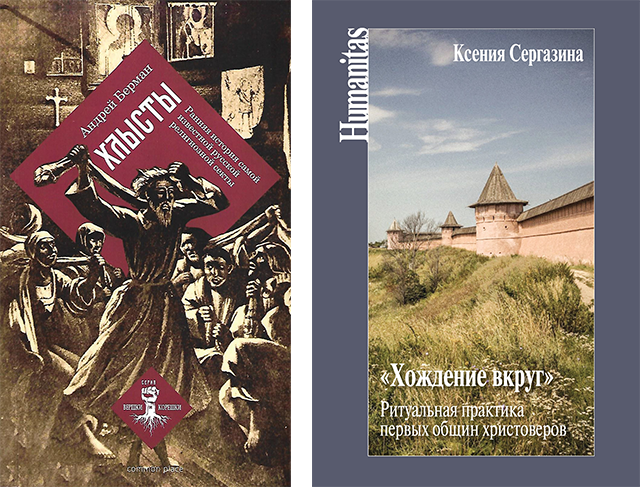
— В девяностые и нулевые антропологи и фольклористы исследовали секты, причем не только старые, но и новые. В то время народная религия переживала расцвет, поэтому, изучая современные секты, задним числом обращались и к старым. Народная религиозность, думается, со временем не исчезла, но новых исследований на эту тему так и не появилось, хотя существуют такие заметные явления магического и ритуального характера, как «марафон желаний», например.
— Ритуальность в подобных явлениях действительно присутствует, это интересно. Можно относительно точно ответить на вопрос, почему именно старым русским сектантством почти никто не занимается — потому что до сих пор существует довольно много архивных материалов, которые нужно искать и раскапывать. Обнаруживаются какие-то новые вещи, которые корректируют нашу точку зрения. Но далеко не все антропологи готовы сидеть в архиве, читать скорописи XVIII века — это дело прежде всего историка, — многим антропологам хочется «ходить в поле», брать интервью, что-то записывать на диктофон и вообще смотреть на современную жизнь. Как-то так получилось, что меня интересует и то и другое. Полевая работа в современных контекстах и какие-то архивные исследования — это, мне кажется, взаимодополняющие вещи.
Что касается современной ситуации и того, что мы очень условно называем нью-эйджем, включая марафоны желаний, какие-нибудь практики расстановок, — мне это действительно очень интересно. Тут обнаруживается проблема: хотим мы это называть религией или нет? Это очень сильно зависит от наших интуитивных или академических представлений о том, что такое религия вообще, где она начинается и где заканчивается. Я преподаю антропологию религии и пытаюсь объяснить студентам, что границы того, что мы понимаем под религией, очень зыбкие. И вообще, то, что мы называем религией, очень существенно меняется в исторической перспективе. У нас есть довольно обыденное представление об этом, но дать серьезное социологически или антропологически выверенное определение довольно сложно. Есть два вектора, идущие от разных научных школ: один от британской антропологии, второй от французской социологии; один от Эдварда Тайлора, другой от Эмиля Дюркгейма, где первый говорит о том, что религия — это прежде всего про сверхъестественное, а второй, что религия — это прежде всего про сакральное.
Сакральное может и не быть сверхъестественным — если вы попробуете пожарить на Вечном огне сосиски или прикурить от него, то вас станут преследовать и судить согласно современным законам, но это не подразумевает обязательной апелляции к чему-то сверхъестественному. Понятно, что Вечный огонь напоминает о тех или иных погибших героях, но это не значит, что мы верим, будто их души существуют где-то здесь — это форма памяти. Здесь мы видим сакральное, которое работает без всяких представлений о духах и контринтуитивных аффектов — когда, например, ослица начинает говорить или стулья начинают бегать по комнате. Тут ничего подобного нет. С другой стороны, у нас есть представление о сверхъестественном — это тоже не самый лучший термин, потому что исторически он очень узок. Само это понятие связано с представлением о естественных процессах и концептуально оно формируется в Новое время — в эпоху Ренессанса и позже. Русский крестьянин, конечно, не знал, что домовой, русалка или чудотворная икона — это что-то сверхъестественное, но тем не менее он понимал, что эти акторы, эти агенты, ведут себя не совсем так, как люди, и могут сделать то, чего люди сделать не могут.
Если мы не хотим пользоваться понятием «сверхъестественное», то можем заимствовать у когнитивного религиоведения понятие «контринтуитивного эффекта» или «минимального контринтуитивного эффекта», если брать конкретный термин антрополога Паскаля Буайе. Иначе говоря — это нарушение наших интуитивных онтологических ожиданий. Если мы эти идеи попытаемся использовать для описания современности, то увидим, что сакрализация в современной культуре гораздо чаще связана с более или менее секулярными идеями.
Понятно, что для крупнейших мировых религий, для ислама или христианства, идея сакрального остается важной, и, соответственно, представления о святотатстве и кощунстве играют довольно серьезную роль. Когда мы говорим, например, о нью-эйдже, то замечаем, что там тоже есть свои способы сакрализации, но они не очень заметные и их сложнее описывать. Нью-эйдж не оперирует понятием сверхъестественного, он объясняет естественный и природный порядок при помощи квазинаучных и квазирациональных построений, выражая своеобразный мировоззренческий холизм — наши мысли и желания довольно жестко друг с другом связаны, они друг друга обуславливают. То есть, скажем, если мы верим в духовное целительство, то говорим, что наши эмоции прямо связаны с нашими, а иногда и с чужими болезнями. Помню, как последователи Церкви Последнего Завета — виссарионовцы — рассказывали, что легочные заболевания — это обиды. У внучки одного из виссарионовцев было подозрение на туберкулез — они собрались всей семьей, вспомнили свои и чужие обиды, попытались их преодолеть. После этого подозрения на туберкулез были сняты.
— Существует же психосоматика, в которую многие верят и часто самостоятельно ее толкуют. Очень похоже.
— Действительно, никто психосоматический эффект не отменял. Вряд ли можно утверждать, что этих эффектов вообще нет и что их невозможно описывать и исследовать. Но тут гораздо более общая вещь — это такая мировоззренческая конструкция, которая существенно расширяет интуитивно ощущаемые человеческие возможности. Если я силой мысли могу исцелить чужую болезнь, или передвигать предметы, или даже общаться на гигантских расстояниях во много световых лет с какими-то инопланетными агентами, то это делает мое тело и мою субъектность чрезвычайно расширенными по сравнению с тем, что я вижу и чувствую интуитивно. Эти представления в рамках такой холистической модели можно сопоставлять с представлениями о сверхъестественном. В позднесоветской культуре было много разных групп, которые занимались исследованиями паранормального, и самыми значимыми существами для них были инопланетяне, полтергейсты, снежные люди — эта мировоззренческая модель ушла в прошлое. Сейчас важнее родовое проклятие и вообще какие-то связи внутри рода — они оказываются в центре повестки многих современных сообществ.
— Есть даже такое явление, как родология. Это сейчас очень популярное течение — в издательстве «АСТ», например, вышла книга «Зов Рода», автор которой является клиническим психологом и членом научного общества «Знание», что бы это ни значило. Все это сложно научно верифицировать, но апелляция к чему-то научному как будто должна внушать доверие.
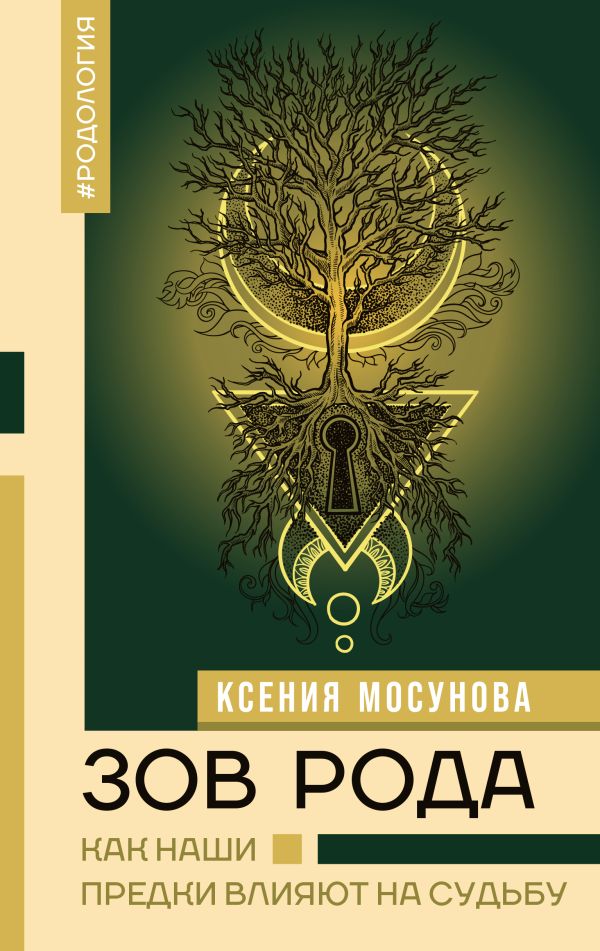
— Образ науки как раз был довольно заметен в нью-эйдже, причем и в позднесоветском, и в американском, и в западноевропейском. Советская ситуация, конечно, была специфичной, потому что вера в науку была важной деталью советской модернизации. Такой технооптимизм подразумевал, что наука и связанное с ней развитие технологий должны решить все человеческие проблемы, и поскольку модель идеального социального строя уже разработана, то нужно просто развивать науку и правильно использовать технологии, тогда обязательно произойдет построение коммунизма. Правда, потом еще встал вопрос о марксистско-ленинской этике, но не будем сейчас об этом. В общем, так называемый сциентизм в парарелигиозной культуре действительно был очень заметной вещью.
Если попытаться найти общую модель, то можно вспомнить, что в социологии религии второй половины XX века была популярна идея «расколдовывания мира», высказанная еще Максом Вебером — научное мировоззрение работает гораздо более эффективно и должно в какой-то момент вытеснить религию из публичной сферы. При помощи религии становится неудобно объяснять мир, религия может играть важную психологическую функцию, но доминировать у всего человечества будет научное мировоззрение. Потом выяснилось, что довольно трудно сказать, где находятся границы религии, к тому же сама религия научилась говорить на языке науки, а для людей это оказалось привлекательным.
— На обложках популяризаторских книг часто можно увидеть высказывания ученых в пользу религии — условный Альберт Эйнштейн заявляет откуда-нибудь из уголка: «На самом деле я верю в Бога».
— Возвращаясь к идеям Макса Вебера можно сказать, что он был отчасти прав, но отчасти все-таки и неправ — он говорит, что наука будет определять наше мировоззрение, особенно в публичной сфере, в публичных дискуссиях. Все оказалось сложнее, потому что речь тут скорее идет не о науке как таковой, а об образе научного знания, то есть такой воображаемой науке, которую приходится использовать для легитимации своих идей и своего социального статуса. В современном обществе это действительно оказывается важным, потому что кому-то достаточно сказать, что Господь открыл для меня знание или во сне мне, допустим, явилась Ксения Блаженная и сказала, что нужно действовать определенным образом, — все-таки это далеко не всем подходит. А вот сказать, что «ученые уже открыли» природу какого-то загадочного явления — настоящие ученые, которым, разумеется, не дают пробиться в социальный академический истеблишмент, — в современном мире оказывается гораздо более удобным. Люди гораздо охотнее увлекаются идеями альтернативных историков, альтернативных физиков или альтернативных лингвистов — это, опять же, объясняется технологическим утопизмом, который был очень важен для советского человека. На Западе на подобную альтернативу смотрят как на что-то маргинальное, а у нас этим многие увлекаются.
С другой стороны, если отвлечься от советской и постсоветской специфики, то тут еще важную роль сыграла глобальная демократизация повседневной жизни, развитие общества потребления, где большинству людей доступны товары и услуги и относительно легко добиться значимых социальных статусов. Еще очень важную роль сыграла информационная революция, которая тоже демократизировала публичные дискурсы. Сейчас мы видим попытки государственных бюрократий придушить этот демократичный интернет, но душить его удается с большим трудом, и мне не хочется верить, что в какой-то момент мы окажемся в антиутопии, где интернет вместо средства обмена информацией станет средством подавления и контроля, хотя Павел Дуров нас об этом предупреждает. Но пока мы находимся в ситуации, когда каждый сам себе оратор и сам себе ученый, каждый может, выступая с самыми разнообразными идеями и речами в интернете, зарабатывать на этом деньги, если эти идеи и речи находят спрос в каких-то сообществах. В этом сочетании якобы научного и якобы религиозного мировоззрения, между реально работающей наукой и более-менее устойчивыми религиозными представлениями сформировалась гигантская серая зона, в которой мы находимся, где есть родология, где православный архиепископ утверждает, что правы те ученые, которые открыли, что матерная брань поражает человеческие гены и приводит к их мутации. Информационное общество продолжает развиваться, относительно недавно появился искусственный интеллект, который тоже будет менять наше мировоззрение, но мы видим только общие контуры всех этих процессов — что будет дальше, сказать довольно сложно.
— С одной стороны цифровая демократизация — можно объявить себя Виссарионом, Ошо или новым Христом, но закон все равно находится на стороне Русской Православной Церкви и будет налагать санкции на всех, кто с ней конкурирует. Почему так происходит?
— В первой половине XVIII века все уже было небезоблачно, кому-то, конечно, удавалось откупиться, избежать наказания, но нескольких лидеров христовщины казнили, другим достались телесные наказания, множество людей отправили в ссылку. Если вернуться в сегодняшний день, то дело не столько в том, что закон стоит на стороне православной церкви — в ситуации со свидетелями Иеговы, которые были признаны экстремистской организацией, и в ситуации с церковью Последнего Завета, чьих лидеров осудили, печальную роль играет недобросовестная религиоведческая и психологическая экспертиза. Хотя все это было бы невозможно в тех же Соединенных Штатах Америки: даже если властям штата или федеральным властям не нравится какое-то религиозное движение, им не так просто воздействовать на суд, как это происходит в современной России.
В нашем обществе еще очень развита, как сказали бы британские социологи, моральная паника в отношении различных малых религиозных групп, тех, которые обычно принято называть тоталитарными сектами или культами. Антисектантские страхи — малоисследованная тема. Как эти страхи формируются? Как они работают? Какими риторическими фигурами и образами они оперируют? Сейчас легенда о ритуальном убийстве или кровавый навет довольно редко используются активистами антисектантских движений — чаще всплывает популярная в XX веке идея о том, что происходит зомбирование или промывка мозгов, что есть какие-то психологические технологии, которые заставляют несчастных людей подчиняться злонамеренным сектантским лидерам. Против движений западного происхождения будут использоваться конспирологические идеи, связанные со специальной враждебной разведкой, которая подрывает воображаемую духовную безопасность, разрушает воображаемые традиционные ценности. Иногда возникают идеи про доведение до самоубийства или эксплуатацию детей — все это кирпичики современной мифологии страхов. В реальности, конечно, эти страхи не находят никакого подтверждения.
Это и называется моральной паникой, и она более серьезная, чем моральные паники, связанные с какими-нибудь покемонами или другими игрушками, про которые говорят, что они калечат детскую психику. Западная Европа и Соединенные Штаты Америки тоже пережили нечто подобное, только случилось это раньше — в 70-е и 80-е годы XX века. Россия и другие постсоветские страны пережили религиозный бум конца 80–90-х годов, и реакция на это социально-религиозное разнообразие тоже случилась позднее. Характерно, что активисты антисектантского движения часто используют те же штампы, которые сформировались в антикультистском движении на Западе.
Может показаться, что за борьбой с религиозным разнообразием стоит Русская Православная Церковь, но если посмотреть на активистов, то среди них часто можно увидеть людей вообще нерелигиозных или принадлежащих не к РПЦМП, а к каким-то другим христианским сообществам или группам. Так что тут дело не только в политическом давлении какой-то одной религиозной организации, а в том, что подобные страхи — это часть современной мифологии.
Это, пожалуй, неизбежно совпадает с потребностью обозначить какие-то границы — национальные или духовные, что зачастую оказывается одним и тем же. Все это ощущается как нечто вполне реальное, потому что, например, в США в 70–80-х годах случился очередной виток религиозного возрождения, консервативного по духу. Тогда активно боролись с сектантами, и сами секты почти отождествлялись с сатанизмом. Возможно, ситуация похожа на нынешнюю в России, где запретили сатанинскую символику — потому что именно такие движения будто бы пробивают воздушные духовные границы изнутри. И конечно, их нужно искоренить. Так снова возникает тенденция к укреплению и свертыванию, к консерватизму, к охране границ — и все это происходит удивительно легко. Не так давно бытовали страхи, что дети, наигравшись в компьютерные игры, пойдут убивать, увидят кровь на экране, им понравится, и они начнут выбрасывать людей из машин и бить их битами. Но этот страх прошел, его больше нет. Теперь на его месте появился другой страх — одно просто сменилось другим.
— В начале нулевых взрослые — родители, бабушки, дедушки — тоже пугали меня сектантами, свидетелями Иеговы. Говорили, что они подойдут, дадут конфетку и уведут куда-нибудь к себе в общину, а там уже и кровавый навет, и убитый мальчик, и все что угодно. Этот миф, кстати, многим нравится. Кажется, он родился еще в средневековой Англии, где рассказывали про поедание мальчиков, и с тех пор его с удовольствием пересказывают из века в век.
— В действительности этот сюжет родился даже не в средневековой Англии, а в Древнем Риме, в первые века христианства. В каком-то виде он встречается и до появления христианства, в разных культурах, особенно в античной. Но в той форме, в которой он всплывает применительно к сектантам, это уже более поздняя переработка. Средневековая Англия дала ему антииудейское, антисемитское звучание, а антисектантская версия прослеживается начиная от Тертуллиана, который писал, что про христиан говорили именно такие вещи. Фольклористы часто обсуждают, почему подобные сюжеты оказываются настолько живучими. Одно из очевидных объяснений — их особая эмоциональная эффективность, притягательность. Этот сюжет устроен именно так, что вызывает сильный отклик и потому легко воспроизводится.

— Знаете, кому-то как будто даже нравится это, потому что очень мощная символика.
— Между садистами и мазохистами, если честно, разница невелика. Эпидемии страхов и моральные паники вообще типичны для современного мира. В тех же Соединенных Штатах, где опыт религиозного разнообразия уже огромен, встречаются самые необычные формы религиозной жизни — например, Церковь святых последних дней, мормоны. Хотя в начале им, конечно, пришлось нелегко, во второй половине XX века они стали вполне нормальной частью американского религиозного ландшафта. Но образы зловещих сект все равно регулярно всплывают и в западной культуре. Другое дело, что там это не ведет к судебным преследованиям. Можно вспомнить недавний фильм «Солнцестояние» или цикл триллеров Майка Омера, где главный антагонист — харизматичный лидер секты, уже погубивший множество людей и готовящийся погубить еще больше.
Мы живем в обществе, переполненном страхами, и это вполне объяснимо. Людям трудно справляться с огромными потоками информации. Когда появляется что-то новое, непривычное, не совпадающее с устоявшимися представлениями — в том числе о том, какой должна быть религия, — человек начинает нервничать. Не обязательно из-за врожденного консерватизма, хотя и это играет роль, а потому что сам мир устроен так, что в нем слишком много неожиданного и непонятного, чего не удается сразу осмыслить и адаптировать. Это связано и с технологическим развитием, и с информационной революцией.
По этому поводу еще во второй половине 70-х — начале 80-х годов возникла дискуссия между немецким социологом Ульрихом Беком и британским антропологом Мэри Дуглас. Они обсуждали, почему современное общество так воспринимает риск, почему за любыми социальными и культурными явлениями видит угрозу. Дуглас считала, что дело не в особенностях социальных структур, а Бек утверждал, что это естественное следствие технологического прогресса: чем сложнее становятся технологии и чем больше информационных каналов, тем сильнее ощущение опасности. Мне ближе эта точка зрения. Мир страхов сегодня гораздо шире, чем в аграрной культуре, где люди боялись вредоносного колдовства или демонов. Тогда набор страхов был ограничен, а теперь мы даже не можем предсказать, чего люди начнут бояться дальше — сектантов, покемонов или искусственного интеллекта.
— Да, искусственный интеллект пока еще слишком новая для России вещь, чтобы вокруг него успели сложиться легенды и страхи. Но, наверное, это вопрос времени. Любопытно будет посмотреть, во что именно все это со временем превратится.
— Можно предположить, что постепенно начнут появляться идеи о том, что искусственный интеллект живет самостоятельной жизнью, обладает собственной волей и стремится погубить людей или причинить им вред. Сейчас страха перед нейросетями вроде бы нет, но, возможно, вскоре он появится. Честно говоря, мне как преподавателю это даже было бы по-своему приятно: студенты, может, хоть немного перестанут полагаться на чат и начнут пользоваться собственными мозгами.
— Обычно легко удается их раскусить?
— В Европейском университете, где нет бакалавриата и довольно строгий отбор в магистратуру, мы сталкиваемся с этой проблемой не так часто. Хотя на уровне вступительных экзаменов разговор об этом уже вполне серьезный. Когда мы даем письменные задания, стараемся формулировать их так, чтобы искусственному интеллекту было сложно с ними справиться. Например, можно использовать фрагмент полевой записи в фонетической транскрипции, да еще чтобы рассказчик был не самый ясный, говорил неровно, сбивчиво, — тогда системе трудно уловить смысл. Хотя, если честно, за последние пару лет искусственный интеллект показывает такие результаты, что, пожалуй, его самого можно было бы принять в магистратуру.
— И последний вопрос. Что бы вы посоветовали людям — молодым или не очень, тем, кто блуждает в этом мире, постоянно чего-то боится или придумывает себе страхи?
— Не знаю, все равно целиком справиться со страхами никому из нас не удается и не удастся. Но вообще я бы посоветовал, конечно, людям все-таки получать по возможности хорошее образование в области социальных наук, если даже они специализируются в каких-то других науках, но все равно есть формы и форматы, в которых вы можете брать какие-то курсы по антропологии и социологии. Хотя в России сейчас это не всегда, наверное, легко сделать, особенно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, особенно в нынешней политической ситуации. Но все равно такие возможности есть. Мне кажется, что антропологические исследования, которыми я занимаюсь, мне как-то все-таки помогают немножко упорядочить те социальные страхи и тревоги, которыми живет современный человек.