Спасения нет
Беседа с филологом Еленой Михайлик о прозе Варлама Шаламова
— У Шаламова очень странные отношения с современной властью: то его экранизируют и показывают по федеральным каналам, то исключают из школьной программы и как будто задвигают. С чем может быть связано такое мерцающее положение?
 Елена Михайлик
Елена Михайлик
— Я не могу говорить о современной России с серьезной ответственностью. Я уже 25 лет живу совершенно в другом месте. Могу лишь предположить, в чем отчасти дело. Шаламов — человек для политики очень неудобный.
В тот момент, когда наступает осознание, что это замечательная проза, и это именно проза, а не безыскусные свидетельства, за которые ее систематически принимают (тут уже сам автор постарался), это вызывает некоторое возмущение. Мне доводилось наблюдать такую же реакцию на последние картины Германа. Особенно на «Хрусталева» и именно в связи с осознанием качества мастерства.
Когда подобная история рассказана так, что каждый кадр можно вешать на стену, это начинает оскорблять. Причем людей самых разных позиций: и тех, кто считает, что так все и было, и тех, кто считает, что ничего подобного не было, и тех, кто считает, что нельзя писать стихи после Освенцима.
Шаламов, который значительную часть жизни посвятил тому, как именно следует писать стихи после Освенцима, этому всему противонаправлен. Он безумно неудобен и этически, и политически. Политически — как остаток, обломок производства нетоталитарного левого движения в России. При этом, в отличие от Солженицына, Шаламова невозможно было принять за своего никакой группе.
— И поэтому сейчас некоторые неавторитарные левые любят записывать его в троцкисты?
— Это, простите, анекдот. Троцкистом Шаламов не был. Его отношение к революционному насилию известно. Против индивидуального террора он, кажется, ничего не имел. А против системного классового насилия имел и неоднократно эту позицию выражал. Присоединился к троцкистской оппозиции он просто по той причине, что это была единственная доступная оппозиция. К тому моменту, как он к ней присоединился, объяснить кому бы то ни было, из какой он парадигмы, было уже невозможно.
 Варлам Шаламов, 1957 год
Варлам Шаламов, 1957 год
Варлам Тихонович Шаламов рос в Вологде, где одновременно царствовали и сильные проправительственные, и противоправительственные настроения. И состояние войны с государством было одним из вариантов нормы. Было бы очень странно, если бы человек, искренне усвоивший в качестве стандартной этику старого революционного движения, не пришел в то или иное столкновение с советской властью. Он прекрасно видел, куда все катится.
Вишерским лагерям он не удивился, ничего хорошего он не ждал. В его представления о режиме они вполне вписывались. А вот Колыме он уже удивился, ошеломленно поняв: оказывается, есть граница и, оказывается, она здесь. И это уже не вписывалось в его представления о человеке, которые потом пришлось пересмотреть. Но его представления о политической составляющей нарушены не были.
В то же время Шаламов занимается очень старой проблемой: лагерь всегда здесь был. А то, что произошло в конце тридцатых, очередная актуализация тех вещей, которые являются одним из параметров человеческого существования. Уберите тепло и достаточное количество еды, добавьте тяжелый труд, и вы получите человека, который забыл имя собственной жены. А потом труп этого человека. И не спасут никакие внутренние факторы. Единственный способ справиться с лагерем — туда не попадать.
Шаламов считал, что 37-й год может быть повторен в любой момент, потому что все факторы, которые в нем сошлись, — это факторы человеческой природы. И дело не в том, что человеческая природа плоха и должна быть преодолена. А в том, что есть граница, за которой в принципе ничего нет. К ней нельзя подходить.
В «Колымских рассказах», сознательно это сделано или нет, техника, особенно устойчивая, надежная техника, — это признак нормальной жизни. Она может быть освоена лагерем, использована, как, например, бульдозер, для того, чтобы хоронить тела. Но присутствие, нормальное, стабильное, не единичное, устойчивой технической среды — это возвращение к некой норме. Вот та самая всеми нелюбимая цивилизация для Шаламова — это признак жизни. А ее отсутствие — признак смерти.
— Читая вашу книгу, я удивился тому, что никогда не замечал очевидного. Обычно человек, переживший запредельный опыт, рассказывает о нем протокольно, как пишут заявление в полицию. А Шаламов, наоборот, пишет не свидетельство, а самую настоящую модернистскую прозу.
— Он не занимается свидетельством. Свидетелем в тексте Шаламова является читатель. Его текст устроен так, чтобы тем, кто видит и наблюдает, тем, кто вынужден делать из всего этого выводы, был именно читатель. А автора нет, его не существует. Он в буквальном смысле умер. Или находится на такой стадии разложения, что если он даже и делает какие-то выводы, то полагаться на них явно бессмысленно.
Рассказчик Шаламова заведомо недостоверен, потому что достоверный рассказчик в этой ситуации невозможен. Во-первых, он мертв. Во-вторых, тот, кто на самом деле находится или находился под этим давлением, по определению ничего не может вспомнить точно.
— Другой отличающий Шаламова от других «лагерников» момент — обилие интертекста. Он не самый сложный, но его просто не ожидаешь там найти и потому не ищешь.
— Я бы не сказала, что не самый сложный. Шаламов оперирует вещами, про которые он ожидает, что они будут так или иначе известны, хотя они идут очень послойно. Человек, не заметивший ошибку в цитате Томаса Мора, совершенно сознательно допущенную, все-таки заметит цитату из Пушкина. Плотность достаточно высокая, а отсылки иногда прямые.
 Варлам Шаламов
Варлам Шаламов
Когда в рассказе «Дождь» герой рассказывает о попытке сломать себе ногу, выворотив на ногу камень, он говорит: «Из этой тяжести недоброй я думал создать нечто прекрасное». То есть цитирует «Notre Dame» Мандельштама.
В некотором смысле Шаламов очень удобен для исследования. Память его была не идеальной, полагался он на нее порой несколько излишне. То есть помнил очень многое и очень хорошо и поэтому не проверял и делал ошибки. Но зато, обнаружив какую-то ассоциацию или отсылку, можно быть практически стопроцентно уверенным, что она там неслучайна. Она могла возникнуть случайно памятью руки или по ассоциации, но уж оставлена была намеренно.
— А по рукописям видно, как он работал над текстом, над его уплотнением?
— С одной стороны, Шаламов говорит, что «первый вариант всегда самый искренний». На самом деле он проделывал большую работу с черновиками. Не только с текстами отдельных рассказов, но и с композицией циклов. Если вы зайдете на «Шаламов.ру», вы можете увидеть черновики первого цикла «Колымских рассказов».
Например, в черновиках рассказа «РУР» видно, как походя появляется финал рассказа «Калигула». В «Калигуле» местный начальник Ардатьев в совершенно невменяемом состоянии загоняет в карцер плохо работающую лошадь. За то, что она срывает план.
Финал этого рассказа одной строчкой появляется в рассказе «РУР», который совершенно о другом. Но в его финале полковник Гаранин спрашивает одного из сидящих: «За что попал в РУР?» А тот отвечает: «Мы лошадь павшую съели». И становится понятно, что лошадь умерла, что два сторожа из рассказа «Калигула» эту лошадь съели и за это попали в РУР, роту усиленного режима.
— И у Шаламова очень много подобных маркеров разбросано по текстам.
— Да, это систематически. Как сюжет может получить неожиданный поворот в другом рассказе, так и одна и та же история может быть описана с разных несовместимых ракурсов. И читатель должен думать: «А что там было? И кто ошибается?»
Помимо того, что он создает такой «туман войны» и обеспечивает рассказчику позицию недостоверности, он ошибается как очевидец. Это многократно повышает плотность текста. Читатель вынужден возвращаться, читатель вынужден отслеживать, читатель вынужден воспринимать все детали как равноправные. Он не может автоматически совместиться с авторским ракурсом и выделить тропку, по которой он идет, как в самом начале «Колымских рассказов», когда каждый должен пройти по нетронутому снегу. Шаламов обеспечивает читателю эту снежную целину.
Читатель «Колымских рассказов» в некотором смысле не является читателем. Он отчасти является писателем, тем, кто определяет, что это за история и о чем она. И, в частности, это достигается за счет того, что никогда нельзя с уверенностью сказать, что важно, а что нет. Вот это и есть очень важная часть шаламовской прозы. То, что он пытается сделать текст первой реальностью для читателя.
— Еще одна важная, на мой взгляд, вещь, о которой вы пишете: лагерь — это место, где распадается культура, где ее нет. Шаламов, прибегая к цитатам и аллюзиям, обращается к обломкам культуры как к спасению?
— Наоборот. Культура никого не спасает. Это мы спасаем ее. Культура существует только в нас, как на носителе. При разрушении носителя она гибнет. Скажите, то обстоятельство, что люди смертны, оно уничтожает все?
— С объективной точки зрения — нет.
— Почему же должно все уничтожать то простое обстоятельство, что люди не только смертны, но и подвержены распаду? Да, при температуре, при которой плевок замерзает на лету и при количестве калорий ниже определенного уровня, оно перестает работать. Почему из этого следует недостаточность человека или культуры? Вот этот вывод систематически делают, но мне совершенно непонятно, откуда он возникает.
Да, человек есть мера всех вещей. Но это не означает, что сам человек бесконечен. Он и не может быть таким, если им что-то измеряется. Возможность достаточно точно определить, где он кончается, с моей точки зрения, дает возможность хоть на что-то опираться. Лагерный мир ужасен. Это даже не вполне правильное слово. Лагерный мир несовместим с человеческим существом как таковым. Но тот ракурс, с которого смотрит Шаламов, мне кажется очень уютным. Он нормален. В прескриптивном значении слова.
 Шаламов с Галиной Игнатьевной Гудзь в первые годы брака
Шаламов с Галиной Игнатьевной Гудзь в первые годы брака
Главная претензия Шаламова к гуманистической русской литературе — это то, что она требует от людей вещей, которые человек по определению дать не может. И регулярно создает катастрофу просто по причине пренебрежения техникой безопасности. Это звучит смешно и слишком иронически, но «Колымские рассказы» — это история и о массовом пренебрежении техникой безопасности.
В 20–30-е было огромное количество плакатов, посвященных оной технике, очень выразительных и отражающих то, что у нас происходило в обществе. Один такой плакат показывает человека, который идет по спуску, куда грузится рыба, и надпись: «Не ходи по рыбе!». То, что Алексей Толстой называл хождением по мукам, на самом деле хождение по рыбе со всеми вытекающими последствиями для ходящих.
С точки зрения Шаламова, есть уровень давления, которому по определению невозможно противостоять. Вообще. И этот фактор — одна из тех вещей, которую он системно воспроизводит. Можно, если повезет, умереть раньше. Это все, что можно. Можно не пытаться выжить за счет других, пока сохранилась воля, которая позволяет от этого удерживаться. За определенной границей ты не будешь помнить, что ты там делал. Просто потому, что тебя там не было. Личности там не было, она распалась.
Человек, который потихонечку восстанавливается от лишних капель тепла, лишних крошек еды и от более легкой работы в рассказе «Сентенция», он не помнит, что с ним было в темноте. Он не знает. Это, кстати, вполне зафиксированное медицинское обстоятельство. Та часть мозга, которая фиксирует качество и продолжительность сильной боли, с сознанием практически не соотносится. Люди этого не запоминают. Ощущают, чувствуют, а опыта не остается.
— И Шаламов ставит Солженицыну в упрек то, что он эту самую грань не увидел, не заглянул за нее, но судит о ней уже как документалист?
— Это разногласие у них было исходно. И Солженицын считал возможным оппонировать Шаламову, опираясь на самого же Шаламова, говоря: «Вы-то не разложились, вы не стали бригадиром». Тогда как Шаламов, вероятно, находил это весьма для себя оскорбительным, поскольку он в «Колымских рассказах» очень внятно описывал, насколько это все касается всех. Насколько невозможно от этого защититься.
Читатель может отсоединиться от того обстоятельства, какие бумаги — расстрельные списки — переписывает Крист в рассказе «Почерк», отдавая себе отчет, что он переписывает и как это соотносится с исчезновениями людей. Или оценивать качество аргументации рассказчика в «Сгущенном молоке», которого соблазняют на псевдопобег. Весь этот рассказ, возможно, построен на голодной мечте, на самом деле, может быть, всех этих событий и не было. Не было выцыганенной порции сгущенного молока. В общем, совершенно понятно, что это опять подвижка, вызванная лагерем.
Как и в рассказах «Чужой хлеб» или «Вечная мерзлота». Исключений нет ни для кого. Уровень травмированности у всех одинаков. И рассказчик, и персонажи — двойники рассказчика не являются исключением. Рассказчик говорит: «Я давно дал слово, что если меня ударят, то это и будет концом моей жизни. Я ударю начальника, и меня расстреляют». Это пока были силы. А когда силы исчезли, то его били, и он не убил и не умер. И это то, что память сохранила. А есть же вещи, которые не сохранила. Потому что в тот момент некому было помнить.
— Насколько я понимаю, Шаламов сначала относился к Солженицыну вполне благодушно, но потом дошло до прямых оскорблений. Шаламов даже в какой-то момент назвал Солженицына «писателем-дельцом».
— Только в советском обществе того времени такие люди, как Шаламов и Солженицын, вообще могли всерьез соприкоснуться. Они друг другу не родня, ни художественно, ни политически, ни философски. Они говорили на разных русских языках. Только в силу давления со стороны советской власти и в силу политики забвения эти люди могли решить друг с другом общаться.
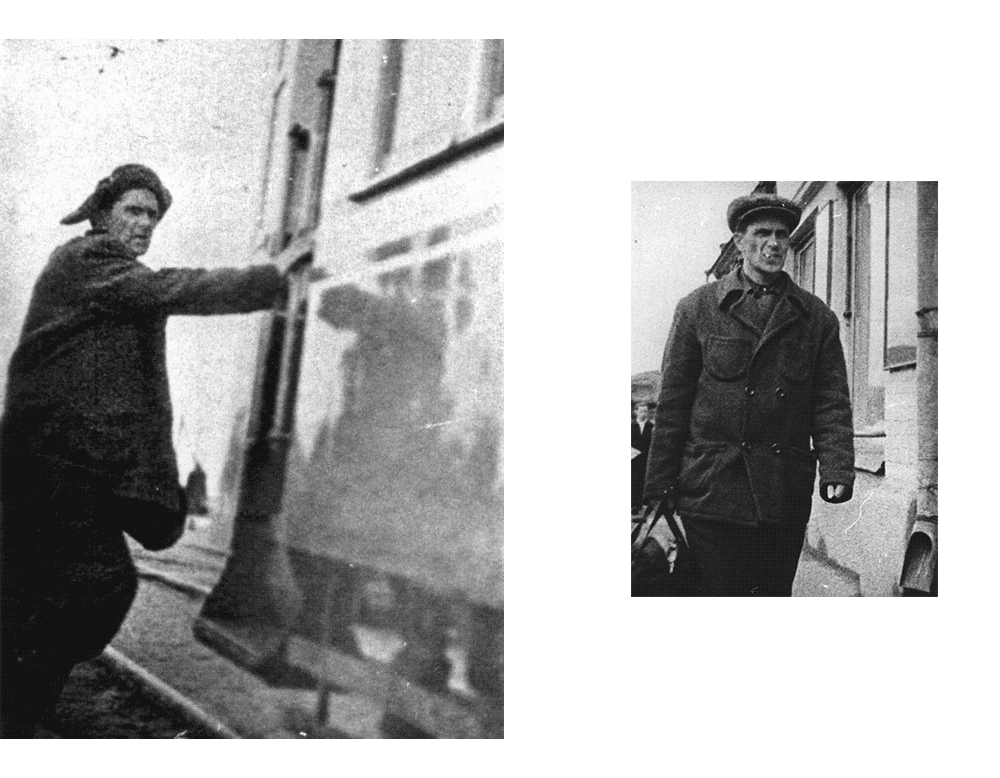 Шаламов садится в трамвай. Слежка. Из архива КГБ, 1956 год
Шаламов садится в трамвай. Слежка. Из архива КГБ, 1956 год
В мало-мальски нормальной ситуации они могли встретиться только как оппоненты. То, что они разошлись и разгорелся двухсторонний и очень жесткий конфликт, это результат их вынужденного сближения. И градус конфликта описывает меру вынужденности. Они исходно увидели друг в друге близких людей, которыми не были ни на секунду. Увидели возможность понимания там, где ее не было.
Это совершенно разные художественные подходы, это несовместимые философии истории, философии физиологии, это взаимоисключающая методика. Эти две фигуры в замкнутом пространстве просто означают взрыв — но в нормальной ситуации они в этом пространстве не оказались бы.
— Просто мы, читатели, любим противопоставления. Солженицын — Шаламов, Толстой — Достоевский. Для самого Шаламова, кстати, эта дихотомия тоже существует, и он однозначно делает выбор в пользу Достоевского.
— Хотя и с ним очень сильно полемизирует. Если в могилу Толстого он периодически мечтает вбить осиновый кол, то с Достоевским он полемизирует. Не такой катастрофической была аллергия.
— Во вселенной Шаламова, если можно так выразиться, невозможен большой классический полифонический роман.
— Но это и не рассказы. Это некий смысловой голографический объем, где одна и та же вещь на каждом уровне воспроизводится и образует фрактальную структуру на месте романа. Люди выбиты не только из биографии, люди выбиты из тела, из сознания, из времени. А пространство сохраняется.
Пространство это в основном ограничено, сдавлено рельефом. «Мир бараков был сдавлен тесным горным ущельем. Ограничен небом и камнем». И только иногда распахивается, но тут же оказывается, что единицей его измерения является труп.
Лагерь мироподобен. Лагерь — это категория состояния. Где это состояние человека, там и лагерь. То же самое могло происходить при Анне Иоанновне. А могло и посреди 37-го года с вами не происходить. Лагерный начальник на Колыме может видеть горы и воспринимать все это пространство нормально. Просто потому, что он в тепле, он относительно сыт. Ему может быть неудобно, но он все это видит, слышит и воспринимает. Потому что ему есть чем. Для человека, находящегося с другой стороны окна, все может быть совершенно по-другому. Это совершенно разные ситуации, и они находятся в разных местах.
— Мы видим в прозе Шаламова редкие моменты индивидуального спасения, а возможно ли в таком мире спасение коллективное?
— Он не видит никакого индивидуального спасения, потому что спасения нет. Человек, который даже выжил и вышел на свободу, как в рассказе «Припадок», вспоминает свой опыт, и этот опыт посещает его как припадок болезни, завладевает им целиком. Не вызывая при этом страха. Но этот опыт уже всегда здесь, и он определяющий. Выйти невозможно. Так что нет, нет вариантов индивидуального спасения.
А в смысле коллективном — это, в формате сказки, «Последний бой майора Пугачева», про людей, которые осознали проблему и решили, что они сюда просто не будут попадать. И не попали.
— Но вышли они из всего этого известно как. Отказались в этом участвовать и через свою смерть исключили себя из системы.
— В общем, да.
— Невеселый вывод.
— А веселых ситуация не предусматривает. Понимаете, мы имеем дело с чумой. При полном отсутствии средств лечения. Поскольку общество и культура категорически не позволяют себе открыть глаза на существование чумы. Крайний случай допущения — раннесоветская власть была такой ужасной, что породила вот это ужасное чудовище, ГУЛаг. С точки зрения Шаламова, эта «Америка» здесь всегда была. Люди вообще таковы. Данный конкретный режим лишь в очередной раз вызвал все это на поверхность. А все параметры, которые позволяют этому быть и позволяют каждый раз всплывать, они здесь были всегда, и это отказываются видеть. Какие тут могут быть оптимистические варианты?
 Варлам Шаламов улыбается напротив продовольственного магазина
Варлам Шаламов улыбается напротив продовольственного магазина
— Весь интеллектуальный мейнстрим учит нас тому, что опыт ХХ века был опытом уникальным, исключительным. Шаламов, получается, стоит особняком.
— В целом, с его точки зрения, этот опыт был в некотором смысле уникальным и исключительным. Потому что после концентрации этого опыта, «после самообслуживания в Освенциме и „Серпантинной” на Колыме» игнорировать все эти обстоятельства уже кажется невозможным.
Концентрация этого опыта и количество людей, которые вроде бы способны осознать этот опыт, — только в этом смысле уникален ХХ век. А во всех прочих ничего особенного не происходит.
Вот мы с вами говорили о технологической цивилизации. Шаламов все время подчеркивает, что лагерный материальный мир катастрофически недостаточен в физическом смысле. Недостаточно хлеба, укрытия, одежды. Он его все время описывает как древний мир.
Там все время подчеркивается, что тот уровень, на который обваливает людей лагерь, это уровень, на котором вообще-то люди исторически существовали довольно долго. Там нет никакой специфики. Просто холод, голод, тяжелый труд, зверское обращение. Все. Больше ничего не нужно. И эти параметры могут встречаться где угодно и встречались массово.
И да, люди в этой ситуации не могут существовать как люди. Им для этого нужно несколько больше еды, тепла, несколько больше безопасности. Если делятся хлебом — значит, еще не край. Если возможна дружба — значит, еще не край. Если в сознании возникли стихи — значит, ситуация вообще относительно благополучная, какой бы чудовищной она ни казалась снаружи. Потому что в ситуации неблагополучной нет стихов. И вас там нет. И нас.