Соборность — это неологизм
Интервью с историком византийского богословия Дмитрием Бирюковым
«Крестный ход на водоосвящение в деревне». Иван Трутнев, 1858
Само слово «соборность» в наши дни ассоциируется с крайне консервативными направлениями русской мысли, однако так было далеко не всегда. Об истоках и трансформациях этого важнейшего для Церкви понятия Филипп Никитин узнал у Дмитрия Бирюкова — историка патристики и византийской философии.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
— Вы изучаете христианские ереси, ваша кандидатская диссертация посвящена философским основаниям неоарианства. Почему именно эта тема вас заинтересовала?
— Я пришел к изучению византийского богословия после того, как закончил Политехнический университет в Санкт-Петербурге. Мне было ясно, что Политех не удовлетворяет моим духовным и интеллектуальным интересам. И я загорелся изучением богословия и философии. В то время, в самом начале 2000-х годов, в Санкт-Петербурге существовали частные учебные заведения, которые учили этому по бакалаврскому треку: Институт богословия и философии и Высшая религиозно-философская школа. Образование в них было скорее неформальным, домашним, и там я получил первичное гуманитарное воспитание и открыл для себя византийских отцов Церкви. На основании диплома Политеха при поддержке Романа Викторовича Светлова мне удалось стать аспирантом-соискателем на философском факультете СПбГУ.
Я взялся изучать философскую сторону учения Евномия, о чем и защитил свою кандидатскую диссертацию. Он был лидером второго поколения ариан, то есть христиан, утверждавших, что Христос является Спасителем, но не является Богом в собственном смысле слова. В полемике с учением Евномия сформировалось ранневизантийское ортодоксальное богословие IV века — в первую очередь, богословие каппадокийцев. Евномий вслед за Арием настаивал: Христос — не Бог, а сотворенное существо, аргументируя это тем, что из Писания следует, что у Христа (Сына) и Бога-Отца разные сущности. Каппадокийцы же в противовес учению Евномия отстаивали, что Христос — это Бог в собственном смысле этого слова. Они отвечали на аргумент Евномия о том, что Сын — не Бог, потому что у Сына и Отца разные сущности, учением о том, что сущность Бога непознаваема. Здесь встал вопрос: откуда же мы знаем о Боге? Ответ каппадокийцев был в том, что мы знаем о Нем из Его энергий (здесь — истоки паламитского различения в Боге сущности и энергий, но только паламитская доктрина утверждает, что это различение имеет место в Боге независимо от тварного мира, а каппадокийская доктрина этот вопрос не поднимает вообще).
Каппадокийцы, выдвинув аргумент о непознаваемости божественной сущности, понимаемой в смысле некоей сердцевины божественного бытия, наделили Евномия славой нечестивца, учившего, что божественная сущность, понимаемая в указанном смысле, то есть суть Бога, познаваема. Эта слава сопровождала фигуру Евномия очень долго и во многом сопровождает ее до сих пор. Я же считаю, что это несправедливость по отношению к Евномию и о познаваемости сути Бога он не учил, а за различением сущности Отца и Сына у него стоит то же, что мы имеем в виду, когда в рамках богословского дискурса говорим о различении нетварного и тварного порядков бытия.
— В настоящий момент вы являетесь научным сотрудником Института Восточной Европы Свободного университета Берлина. Расскажите об этой академической институции и о ваших исследованиях в этом месте.
— Я сотрудничал со Свободным университетом Берлина в рамках проекта DFG, который был посвящен концепту энергии в модернизме раннего советского времени. Суть проекта состояла в том, чтобы проанализировать полифункциональность понятия энергии на пересечении различных культурных полей — в первую очередь научного, литературного и художественного. И проследить взаимосвязи проявленности энергетического языка в каждом из них. Сейчас этот проект уже закончился.
Изначально я подключился к этому проекту для работы с религиозным полем. Так, меня давно уже интересовала интеллектуальная и социальная история имяславского движения в Российской империи, а затем и в Советском Союзе, а также осколков, рассеянных по культуре, того «взрыва», который породило имяславское движение в поле религиозном. (Под имяславием я имею в виду движение, сформировавшееся в 1900-х, изначально русских монахов на Афоне, утверждавших, что «Имя Божие есть Бог».) Действительно, ведь на слуху то, что имяславская проблематика была подхвачена и развита русскими философами начала XX века. И я сам сделал вклад в исследования истории философского имяславия.
Однако развернувшиеся вокруг имяславия в начале XX века богословские споры и несправедливость, как считала российская интеллигенция, с которой российские власти поступили с имяславцами, заставили обратить на имяславие внимание не только философов, но и писателей и поэтов. В результате «осколки» имяславского учения и имяславских споров мы можем обнаружить не только у религиозных философов, но, например, у Осипа Мандельштама (а за ним Марины Цветаевой), Вячеслава Иванова, Даниила Хармса, у Ильфа и Петрова, Ивана Соколова-Микитова и других.
В рамках этого проекта я проследил, например, как и почему имяславские темы вместе с заложенным в них энергетическим зарядом входят в раннюю поэзию Мандельштама и соединяются с энергетической философией языка Вильгельма фон Гумбольдта в эссеистике Мандельштама на рубеже 1910-х и 1920-х годов. Также меня интересует кружок последователей Николая Федорова, тяготевших к имяславию, существовавший в Советском Союзе (или в его ареале) в 1920-х — начале 1930-х годов и в который входили Валериан Муравьев, Александр Горский и Николай Сетницкий. Последние, между прочим, конфликтовали с Алексеем Лосевым, поскольку они пытались совместить федоровианство и имяславие с близким к коммунистическому пафосом революционного преобразования всех основ бытия, а Лосев, человек консервативных взглядов, был против этого. В наследии упомянутого кружка федоровцев-имяславцев вообще обнаруживается множество различных линий: это и собственно имяславие и федоровианство, а также эзотерический дискурс (почти в духе Блаватской), советские теории организации труда, славянофильство почвеннического характера, яркие апокалиптические и мистериальные линии. Разбираться во всем этом и в преломлении энергетического языка в их наследии очень интересно.
А по другую сторону советской границы в это время жил философ права и евразиец Николай Алексеев, который осмыслял в терминах энергетизма сам феномен «советскости», совмещая это с отсылками к паламизму и Рене Генону (Алексеев был одним из первых в ряду русской интеллигенции внимательным читателем Генона).
Я готовлю книгу, где опишу все эти перипетии.
— Недавно вышла книга под названием Companion to Conciliarity in Modern Orthodox Christianity. В ней опубликован и ваш текст про соборность в православии. Могли бы вы рассказать немного о ней и вашем исследовании?
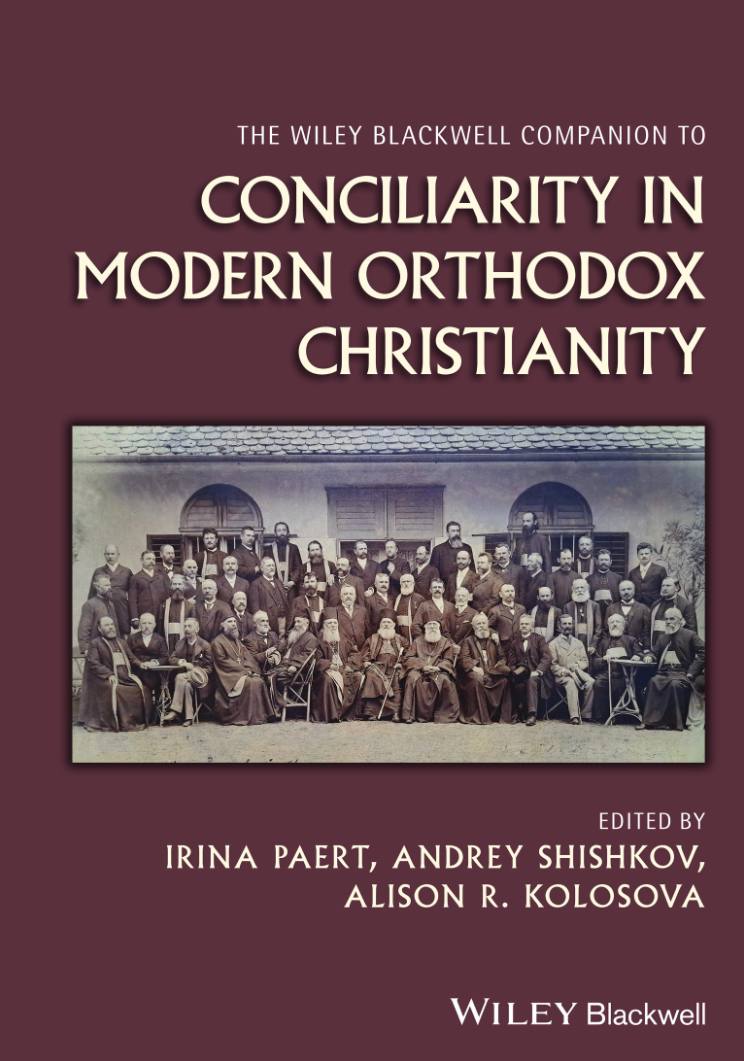
— Сборник посвящен концепту conciliarity, который близок к русскому понятию «соборности». В статье в этом сборнике и в других своих исследованиях я прослеживаю судьбу этого понятия в русской культуре, а также как оно выходит за ее пределы. В этом отношении я следую подходу Рейнхардта Козеллека к историческим понятиям в Новое время. Этот подход рассматривает понятия таким образом, что есть ядро, на которое в ходе истории нацепляются множество смысловых пластов. Соответственно, в рамках этого подхода понятия отражают изменения общественного сознания. В рамках козеллековского подхода предполагается, что понятия могут в каком-то отношении предвосхищать будущую действительность, при разворачивании потенций смыслов, заложенных в нем в истории.
Когда я плотно занимался византийской философией и богословием, я стихийно начал работать с историей понятий, правда, не имея никакого представления о концептуализациях этого подхода наподобие козеллековского. Свою докторскую диссертацию по философии я защитил о понятии причастности в византийской философско-богословской мысли. Там я выделил два важнейших смысла понятия причастности, противоположные друг другу, которые конкурировали в византийской мысли. В результате в византийской мысли возникло определенное противоречие на терминологическом уровне между паламитской и каппадокийской богословскими системами. Когда же я начал заниматься современной мыслью и историей понятия соборности, мне пришлось гораздо глубже погрузиться в концептуализацию истории понятий.
Меня увлекла история этого понятия по следующей причине. Соборность — это неологизм (с архаизирующими коннотациями), не обладающий интуитивно прозрачным смыслом, и поэтому это понятие обладает большей семантической подвижностью, чем многие другие. На формирование понятия соборности, как оно используется в современном языке, очень повлиял светский богослов, философ и ученый XIX века Алексей Хомяков.
Вообще, предыстория этого понятия такая. Имеются две исторические линии, сложившиеся вместе и приведшие к его появлению. Это, во-первых, практики совещательных собраний представителей различных социальных классов и духовенства, созывавшихся в Москве примерно с середины XVI до конца XVII века для обсуждения и решения политических, экономических и административных вопросов («Земские соборы»). В XVII веке эти собрания стали называться «соборами» (по аналогии с церковными соборами); однако к появлению абстрагирующего субстантива «соборность» в русском языке это не привело.
Еще одна историческая линия, приведшая к появлению этого понятия, связана с прилагательным καθολικός в приложении к Церкви. Выражение ἐκκλησία καθολική (кафолическая Церковь) восходит к раннехристианским текстам и дальше продолжает свой путь в церковном контексте в греческом, а затем и латинском языке. При этом слово καθολικός не приобрело четкого значения и продолжало оставаться неологизмом в греческом языке, порождая таким образом множество толкований. Наиболее распространенным значением слова «кафолический» в приложении к Церкви в ранневизантийский период стало «распростертость Церкви по всему миру». В итоге понятие «кафолическая Церковь» с не вполне прозрачным значением понятия «кафолическая» попало в Никео-Цареградский символ веры (381 год), где это понятие выступает одним из прилагательных, характеризующих Церковь — единую, святую, апостольскую и кафолическую. В одной из редакций церковнославянского перевода этого символа слово καθολική было переведено как «соборная»; эта редакция в итоге и закрепилась в славянских языках. При этом слово «соборная» в приложении к Церкви несло в себе коннотации, относящиеся к слову «кафолическая», καθολική. В России также укрепилось понимание, по которому Церковь является «кафолической», или «соборной», в смысле свойства быть везде распространенной. В этом значении в XIX веке в России могло использоваться (встречаясь вообще очень редко) и слово «соборность» как абстрагирующий субстантив от этого прилагательного.
Этому пониманию «соборного» Хомяков противопоставил собственное понимание. В полемике с русским католиком Иваном Гагариным Хомяков начал отстаивать идею того, что слово «соборная» в приложении к Церкви обозначает не количественную (географическо-пространственную) характеристику, а характеристику качественную. Хомякову не нравилось противостояние, имевшее место в Церкви как социальном организме, между «Церковью учащей» (церковные власти и соборы) и «Церковью поучаемой». Он считал, что одинаковый голос должны иметь все члены Церкви. Поэтому, согласно интуиции Хомякова, слово «соборный»/«кафолический» должно указывать на внутреннее свободное единство всех верующих, лишающее смысла все внешние различия между людьми — национальные, социальные и, в том числе, различия между мирянами и духовенством. У Хомякова же я нахожу и идею, которую считаю ядром понятия соборности, как оно сформировалось вскоре: согласно ей, полноценным может являться только — достигаемое во взаимной любви — коллективное устремление к познанию истины, тогда как индивидуальное устремление к истине принципиально неполноценно и ущербно.
На основе хомяковского понимания прилагательного «соборный» и связанных с ним философских идей Хомякова усилиями его соратников-славянофилов — в первую очередь Фёдора Самарина, — в 1860-х сформировалось и вошло в устойчивое употребление понятие «соборность» в новом смысле.
В славянофильской среде произошел и перенос понятия соборности из богословского поля в социальное: Самарин, друг и последователь Хомякова, был тем, кто вывел «соборность» за границы учения о Церкви. Самарин стал говорить о соборности не только в отношении Церкви, но и в отношении «славянства», вкладывая в соборность почвеннические и националистические коннотации и понимая соборность как некую предзаданную коллективную цельность славянской нации. Благодаря Самарину соборность из религиозного поля перешла в социальное, а затем в политическое.
Я обнаружил, что в кругу славянофилов во второй половине XIX века сформировались сразу две, отличные друг от друга, интенции, стоящие за понятием соборности. Это, во-первых, коллективистская интенция, в рамках которой коллектив (изначально — Церковь) понимается как особый субъект. И во-вторых, антииерархическая и эгалитарная интенция, настаивающая на равенстве всех членов сообщества (изначально — Церкви) независимо от их формальной принадлежности к тем или иным ступеням социальной (церковной) иерархии.
Начиная со второй половины XIX века это понятие имело богатую историю в русскоязычной культуре — в философии сознания (у Сергея Трубецкого), языка, политики, в богословии, в теориях творчества и искусства, в размышлениях о природе театра и кино. Меня удивило, что авторы, употреблявшие это туманное понятие, ничего не знали про его предысторию и эти заложенные в понятие соборности в XIX веке две различные интенции, но тем не менее использовали его четко в одном из этих двух смыслов.
Мне стало интересно, как понятие, зародившись в определенный момент в культуре и неся в себе при этом зарождении пучок смыслов, — причем, в случае понятия соборности, смыслов неявных, — живет свою жизнь в этой культуре, выпячивая тот или иной из этих смыслов и ужимая другие, в зависимости от исторических обстоятельств и интересов людей. Как исторические обстоятельства и интенция использующего его человека таким образом трансформируют контуры понятия, но никогда так, чтобы его изначальная форма утратилась полностью, поскольку, как бы тот или иной автор ни использовал «соборность», это всегда будет соответствовать той или иной из (неявных) различных выделенных мною линий в его структуре, заданной славянофилами. Поэтому понятие использует людей данной культуры в своих интересах, а люди используют это понятие — в своих. Интересы понятия соблюдаются потому, что люди пользуются понятием, следуя программе смыслов, заложенных в нем от его рождения, не выходя за пределы этой программы, даже если эти смыслы неявные, как в случае соборности. Через людей понятие сохраняет свою форму и длит свою жизнь в культуре. В свою очередь, люди, подбирая подходящее понятие из закромов культуры, используют его для выражения своих идей или достижения прагматических целей. Меня занимает, как происходит симбиоз — между интересами понятия и интересами использующих его людей.
К началу XX века понятие соборности благодаря Вяч. Иванову распространилось с религиозного поля на сферу искусства, и, таким образом, возникло понятие соборного творчества. Согласно моему анализу, структура понятия «соборности», сформировавшаяся в русском языке изначально в религиозном поле, осталась той же и когда это понятие к началу XX века перекинулось с религиозного поля в поле искусства: как эгалитарная, так и коллективистская интенции «соборности» сохранились и продолжили свое развитие в русской культуре в контексте этого понятия. Эгалитарная интенция в поле искусства трансформировалась в представление о том, что в модерном театре, кино и литературе граница между артистами и зрителями в ходе реализации такого «соборного творчества» должна стереться или размыться. Коллективистская же линия в соборности трансформировалась в характерное для символистов представление о том, что всякое подлинное, соборное творчество народно, и оно есть воплощение народного духа (здесь символисты у славянофилов переняли почвеннические коннотации соборности).
В советское время в официальном дискурсе соборность быстро стала архаическим понятием и исчезла. Но до этого во время краткого сотрудничества Вяч. Иванова с Пролеткультом была задействована коллективистская нагрузка соборности. В результате это понятие поменяло смысл с почвеннического на классовое, на короткое время оно соединилось с идеологией диктатуры пролетариата и приобрело тоталитарные коннотации. Тогда же в близком контексте разрушения социальных иерархий был задействован и эгалитарный смысл соборности, как в рассуждениях Бориса Эйхенбаума о природе кино. В неподцензурной же раннесоветской литературе при использовании этого понятия старые почвеннические коннотации стали соединяться с эзотерическими: так его используют Валериан Муравьев и Даниил Андреев в своих мистериях.
На церковном поле начальная история соборности связана с актуализацией ее эгалитарной составляющей. Действительно, общественный запрос на демократизацию в Русской церкви соединился с этой заложенной Хомяковым эгалитарной линией в соборности в развернувшейся на основе этого понятия, начиная с 1880-х, обширной дискуссии о способе управления в Церкви. В результате возникло довольно мощное движение за изменение характера управления РПЦ, едва не достигшее успеха, но ему помешала катастрофа революции. Дискуссия о способе управления Церковью вылилась в Поместный собор РПЦ 1917–1918 годов, принципы которого, в частности, основывались на хомяковской соборности и ее демократическом заряде.

В моей статье в этом сборнике я показываю, что в какой-то момент в путешествии соборности по русской культуре органическая составляющая и эгалитарная линия в соборности, вложенные в это понятие Хомяковым и его кругом, стали уходить в тень. Линия же, предполагающая особую субъектность соборного коллектива, основанная (как и другая, эгалитарная линия) на ядре этого понятия — идее ущербности индивидуального и полноты лишь коллективного познания и экзистенции, — со временем стала выпячиваться и играть заметную роль. С утерей эгалитарной и органической составляющих в соборности эта линия стала выталкивать соборность в направлении приобретения этим понятием тоталитарных коннотаций.
Это произошло в 1920-х, когда язык соборности в русской мысли стал приобретать выраженное политическое измерение. Этот язык активно использовал в своих сочинениях высланный из Советской России Лев Карсавин, а также другие евразийцы. Критикуя европейский индивидуализм, Карсавин проводил идею о том, что общество должно быть организовано как иерархия соборных личностей той или иной широты общности, где идеократическое государство находится на вершине иерархии и представляет собой соборную личность высшего порядка. Между ним и низшими соборными личностями, по Карсавину, должно быть установлено отношение абсолютного господства и подчинения последних первому. Ради установления подобного рода «государства — соборной личности» Карсавин считал допустимыми государственное насилие и диктатуру. Таким образом, в учении Карсавина соборность соединяется с крайне правым политическим дискурсом. Этот проводимый Карсавиным этатистский взгляд, выраженный на языке соборности, весьма соответствовал духу времени.
Я прихожу к выводу, что, хотя появление понятия соборности, происшедшее в кругу славянофилов во второй половине XIX века, было направлено на то, чтобы дать голос каждому члену Церкви / идеального общества, ядро этого понятия, заложенное в него при его рождении у славянофилов (представление о том, что полноценным может являться только коллективное устремление к познанию истины, индивидуальное же устремление принципиально ущербно), несло коллективистский заряд. Это было чревато тем, что коллективистские коннотации в «соборности» раньше или позже выйдут на первый план и произойдет забвение изначальной интенции, заложенной в этом понятии, направленной на то, чтобы дать голос всем. И такая «чреватость», как мы видим, осуществилась. Предсказательная функция козеллековской теории понятий работает!
— Вы являетесь исследователем творчества поздневизантийского богослова Григория Паламы. Расскажите, пожалуйста, о значимости этого отца и учителя Церкви для европейской культуры.
— Я начал изучать паламизм из любопытства. Под паламизмом я имею в виду корпус текстов паламитской традиции: в первую очередь, тексты святителя Григория Паламы — византийского богослова XIV века и его соратников. Эти тексты во многом были написаны в ходе паламитских споров, начавшихся с вопроса о статусе Фаворского света, который видели апостолы во время Преображения Христа: является ли этот свет Самим Богом в смысле божественной энергии. Этот спор в поздневизантийском богословии перерос в полемику о Боге как таковом: можно ли говорить, что в Боге, даже вне Его отношения к сотворенному миру, имеется действительное различие между, с одной стороны, непознаваемым и непричаствуемым аспектом — Божественной сущностью, и, с другой, познаваемым и причаствуемым — энергиями этой сущности. Григорий Палама и его соратники (паламиты) настаивали на последнем (здесь Палама следовал, в частности, интуиции халкидонитской христологии: всякое живое имеет присущие его природе проявления вовне, отличные от его природы, — это и есть энергия). Интуиция же большинства антипаламитов состояла в том, что Бог — это такое совершенное целое, в котором не может быть подобного рода различий.
До этого я занимался византийским богословием IV века и не планировал уходить из этой области, поскольку она удовлетворяла мой внутренний запрос на то, чтобы изучать богословскую философию или философское богословие, для чего византийский IV век и так давал богатый материал. В конце 2000-х годов мне предложили поучаствовать в издании перевода одного паламитского текста, и я из любопытства согласился, ничего не понимая в паламитском богословии. А затем втянулся.
С тех пор я перечитал множество паламитских (и антипаламитских) текстов. Чем меня увлекает паламитское богословие — например, тем, что оно касается не только конкретных богословских вопросов, но и распространяется на мироздание как таковое, то есть предлагает определенную онтологию и построенную на ней картину мира.
Насколько я могу судить, эта картина мира предполагает следующее. Есть Бог, в котором есть элемент непознаваемый и непричаствуемый — божественная сущность, и элемент познаваемый и причаствуемый — божественные энергии (Палама говорит об энергии Бога как о движении Его сущности). И есть сотворенный Богом, Его энергиями, из «ничто» тварный мир. Тварный мир существует (и не возвращается в ничто) поскольку поддерживается энергиями Бога. Что касается божественных энергий, то в рамках паламитской доктрины, можно различить энергии трех типов. Во-первых, это энергии Бога, не соотнесенные с тварным миром. Во-вторых, энергии, соотнесенные с тварным миром. В рамках последних Палама ведет речь о «творящих» энергиях, которые поддерживают мир в его существовании, и «боготворящих» энергиях, посредством которых люди могут соединиться с Богом (обожиться). Апостолы на Фаворской горе во время Преображения Христа видели именно эти последние энергии. Паламитская онтология примерно такова. Она на концептуальном и мировоззренческом языке своего времени может объяснить сущее как таковое — и в этом ее отличие от предшествующих византийских богословских синтезов (каппадокийского синтеза IV века и синтеза Максима Исповедника VII века).
Кроме того, паламитское богословие содержит определенные тайны. Хотя они не сразу бросаются в глаза. Например: как я сказал, божественные энергии познаваемы и причаствуемы — это отличает их от божественной сущности. Причем существование божественных энергий не зависит от наличия или неналичия сотворенного мира. Но: те энергии Бога, которые не соотносятся с сотворенным миром и которые, соответственно, никто не познает и никто им не причаствует, — сохраняется ли в этом случае природа энергий быть энергиями; что в случае этих энергий означает то, что они «энергии»? И вообще: на что, так сказать, направлены эти энергии — ведь кроме Бога и отчасти тварного мира не существует ничего? Здесь богословие подходит к вопросам, которые «ломают мозг», и это ужасно интересно.
В какой-то момент я обнаружил, что паламизм в современной богословской культуре является определенным брендом, мифом — несущим коннотации чего-то таинственного и корневого. Очевидно, этот миф о паламизме когда-то сложился. Я обнаружил, что имеется очень мало исследований того, когда и как это произошло. Я стал производить собственные раскопки в этом отношении. Пришел к выводу, что открытие паламизма, по крайней мере в русской культуре, приходится на начало XX века, и связано это было как раз с имяславскими спорами. На определенном этапе этих споров (далеко не сразу после их возникновения), в 1912 году, Михаил Новоселов понял, что в качестве аргумента в поддержку имяславской формулы «Имя Божие есть Бог» можно выдвинуть положение, что «имя Божие» в этой формуле есть божественная «энергия» в паламитском смысле, о каковой, согласно паламитам, справедливо говорить, что она есть Бог. Новоселов привлек к этому аргументу внимание монаха-имяславца (бывшего гусара и знаменитого путешественника) Антония Булатовича. Булатович стал использовать этот аргумент в своих сочинениях, отстаивающих имяславское учение, и паламизм очень быстро вошел в узус многих философов, симпатизирующих имяславию, таких как Павел Флоренский, Сергий Булгаков, чуть позже — Алексей Лосев, Василий Зубов. Булгакову паламитское различение между сущностью и энергиями в Боге оказалось удобным для воплощения своих софиологических построений. Георгий Флоровский, младший друг Булгакова, полемизировавший с его софиологией и подхвативший интерес к паламизму, а также его ученик по Свято-Сергиевскому институту Иоанн Мейендорф, во многом способствовали тому, что паламизм стал брендом на богословском, а затем отчасти и на общекультурном поле. Еще в размышлениях Флоренского оказалось, что различение сущности и энергий может претендовать на универсальную онтологическую дифференцию, посредством которой можно описывать почти любой феномен. Визуальная акцентуация паламизма также оказалась на руку его популяризации.
К концу XX — началу XXI века мы обнаруживаем, что паламизм используется как оптика для рассмотрения разнообразных вопросов: от русской культуры эпохи раннего модерна (у Маркуса Левитта) до индийской веданты (как у Наталии Исаевой).