Смерть, ужас, отчаяние
Поэт Эдуард Лукоянов о Беккете, Боулзе и других
Рубрика «Перепахало» посвящена книгам, которые западают в душу и меняют нашу жизнь. В сегодняшнем выпуске поэт Эдуард Лукоянов рассказывает о радикализме Сэмюэла Беккета, лаконичности Алоизиюса Бертрана и жестокости Камо-но Тёмэя.
Сэмюэл Беккет, «Безымянный»
С Беккетом я познакомился, когда мне было двенадцать лет. Тогда мне попался в руки номер «Иностранки», в котором вышли его радиопьеса «О всех, кто падает» и, кажется, еще несколько текстов. Пьеса мне показалась несуразной, но я навсегда запомнил морщинистое лицо, предваряющее публикацию, и понял, что это любовь всей жизни.
Через несколько лет, когда я стал учеником «Желтой коробочки» (так называют Литинститут его особо любящие студенты), я наконец-то прочитал один из лучших романов ХХ века — «Безымянный». Эта книга замыкает знаменитую «Трилогию», ставшую для Беккета точкой невозврата. После нее мой любимый писатель окончательно порвал с витиеватым модернизмом и стал минималистом в самом радикальном смысле слова.
«Итак, единственная одежда, которая приходит мне сейчас на ум, это обмотки и, может быть, еще несколько тряпок, кое-где. И никаких непристойностей. Да и почему у меня должен быть половой орган, если нет носа? Отпало уже все, все, что торчит: глаза, волосы, без следа, упали так глубоко, что не слышно было звука падения, возможно, еще падают, волосы, медленно-медленно, оседают как сажа, падения ушей я не слышал. <…> И эти слезящиеся впадины я тоже высушу, закупорю их, вот так, готово, нет больше слез, я — большой говорящий шар, говорящий о том, что не существует или, возможно, существует, как знать, да и неважно».
За «Безымянным» последовали еще более экстремальные вещи: достаточно вспомнить романы «Опустошитель» и «Как оно есть». Беккет идеален во всем, что он делал, но «Безымянный» все же останется для меня самой любимой и пронзительной книгой в истории европейской литературы. Если я показался вам чрезмерно сентиментальным, посмотрите, как отрывок из этого романа читает Гарольд Пинтер.
Камо-но Тёмэй, «Записки из кельи»
От средневекового японского писателя Камо-но Тёмэя осталось чуть более двадцати страниц, которые будут потяжелее трудов Сартра, Камю, Хайдеггера и Мерло-Понти вместе взятых. Этот лаконичный текст написан в жанре «дзуйхицу» — что-то вроде автоматического письма, открытого сюрреалистами почти тысячу лет спустя. Добровольный отшельник капал чернилами на листы бумаги, а затем задумывался, какие иероглифы ему напоминают бессмысленные черные пятна. Так Тёмэй умудрился рассказать о всех бедах, которые постигли его в жизни. Если сюрреалисты баловались со своим подсознанием, а экзистенциалисты упивались бессмысленностью жизни, то японскому самородку удалось написать одну из самых искренних и жестоких книг. «Записки из кельи» завершаются надеждой, но в качестве показательного примера все же хотелось бы привести описание чудовищного землетрясения.
«Самым печальным, самым грустным из всего этого представлялось то, как один мальчик лет шести-семи, единственный ребенок одного воина, под кровлей каменной ограды забавлялся невинной детской игрой — строил домик; как он, вдруг погребенный под развалинами стены, оказался сразу раздавленным настолько сильно, что и узнать его было нельзя; и как горевали, не щадя воплей, его отец и мать, обнимая его, у которого глаза почти на дюйм вылезли из орбит... Когда подумаешь, что в горе по ребенку даже те, кто от природы исполнен мужества, все же забывает и стыд и все, мне жалко их становится, и в то же время представляется, что так и быть должно».
Жан Жене, «Торжество похорон»
Как и с Беккетом, моя любовь к Жану Жене потребовала много времени и труда. «Торжество похорон» с первой попытки я дочитал до восемнадцатой страницы в переводе Зингера. Увидев словосочетание «бронзовый глаз», я засмеялся и закрыл книгу. Чуть позже я узнал, что это вполне нормальное французское выражение, и вернулся к роману. Читал я его, нежась на пляже в Севастополе или Балаклаве, сейчас уже не вспомнить. Но если вдруг поедете в традиционные места зловещего русского туризма, не забудьте захватить этот мрачный роман о воре, предателе и едоке кошек.
«Грустный, стоя на вершине баварских Альп в застекленной клетке укрепленного шале, Гитлер возвышался над историей. Никто к нему не приближался. Иногда он подходил к краю большой площадки, отделявшей его стеной пустоты от самых высоких вершин мира. Уже давно начало смеркаться, медленно опускалась ночь. Какое-то время его взгляд что-то искал в обширной комнате. Наконец Гитлер приблизился к столу, схватил огромный зеленый карандаш марки «Кохинор» и приложил его к заду. Затем улыбнулся и положил карандаш на место. Он был доволен: солдат, которого он слегка задел, проходя мимо, со всей очевидностью почувствовал, как член фюрера ласково полоснул по его попке».
Ну разве не прелесть? Дальше в моей читательской биографии появились «Дневник вора», «Богоматерь цветов», «Керель» и даже прочитанные в оригинале «Служанки». Но с демоническим текстом «Торжества похорон» все равно ничто не сравнится.
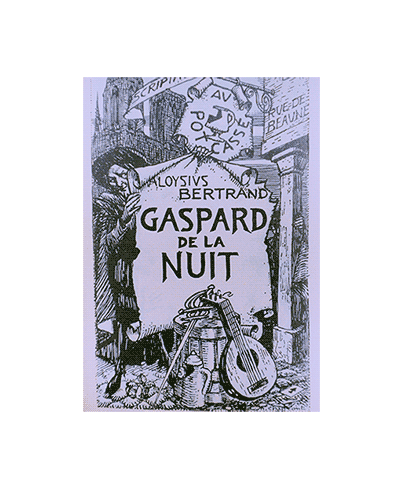
Алоизиюс Бертран, «Ночной Гаспар»
«Мужчина и женщина напились в своей холодной лачуге и уснули, она — на ободранном стуле, он — на полу. По готовой угаснуть свече, красный фитиль которой чадит, струится сало, и она еле освещает красным отсветом их изувеченные и окровавленные лица, ибо, прежде чем рухнуть, сраженные водкой, они по обыкновению подрались. На краю незастеленной койки сидит полуголый трехлетний малыш и плачет от голода и холода. Но его большая сестра — ей уже шесть лет — подходит к нему, берет его на руки, укутывает в тряпку, где больше дыр, чем ткани, и, не имея ничего другого, чем бы утолить его голод, покрывает его поцелуями, согревает и укачивает в своих худых ручках. И, повзрослев от этой небесной любви, девочка с большими золотистыми глазами и прозрачной кожей уже прекрасна и величественна, как юная мать».
С этими чудесными строками меня познакомил Иван Иванович Карабутенко, эксцентричный переводчик де Сада и просто необычный человек. Бертрана обычно называют отцом стихов в прозе. Скорее всего, так оно и есть. Его единственная книга — собрание крохотных зарисовок, ярких, лаконичных, завершенных. Благодаря этому поэту, прожившему совсем недолго, я отказался от идеи написать что-то большое и скучное. Возможно, крохотный зеленый томик Бертрана стал главным событием в моей жизни. По крайней мере, он точно спас меня от писательской гигантомании и прочей скуки, которая ей сопутствует.
Пол Боулз, рассказы
«Человек, всегда ночевавший в кафе, под деревьями или же просто в тех местах, где на него наваливался сон, бродил однажды утром по улицам городка. Он вышел на рыночную площадь, где перед населением, выкрикивая пророчества, кривлялся старый медждуб, одетый в рванину. Человек постоял и посмотрел, пока старик не закончил и не сгреб все деньги, которые люди предлагали ему. Его изумило, сколько безумец собрал, и от нечего делать он решил пойти за ним».
Дмитрию Волчеку за многое можно сказать спасибо, но изданные им сборники Боулза — особый случай. Плохой романист и автор блестящих новелл, знаток музыки и бездарный композитор, Пол Боулз выбил у меня почву из-под ног, когда я прочитал его рассказы танжерского периода. Пожалуй, ни один прозаик настолько убедительно не передавал глубинный ужас жизни. Если его герою придет удачная мысль, он отправится за решетку. Если парень полюбит девушку, его постигнет та же судьба. Смерть, ужас, отчаяние. Но чудесным образом через все это просачивается едва уловимая надежда. А если надежды нет, то искусство, в общем-то, и не нужно. Литература — тем более.