Сменить плохого диктатора на хорошего
«Повелитель мух» как зеркало российского либерализма
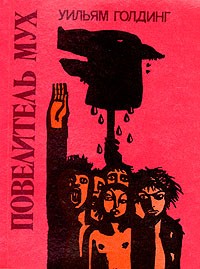 Роман Уильяма Голдинга, написанный в 1954 году, русскоязычному читателю стал известен еще в брежневскую эпоху: журнальная публикация вышла в 1969 году, отдельное издание — в 1981-м. Но культовым он стал начиная с эпохи перестройки, после спектакля Льва Додина в МДТ в 1986 году. В середине 1990-х спектакль был снят с репертуара — официально якобы из-за кражи декораций (какому-то жулику приглянулись натуральные обломки самолета, и он сдал их на цветной металлолом). На сцену додинский «Повелитель мух» вернулся лишь в 2009-м и большого энтузиазма не вызвал.
Роман Уильяма Голдинга, написанный в 1954 году, русскоязычному читателю стал известен еще в брежневскую эпоху: журнальная публикация вышла в 1969 году, отдельное издание — в 1981-м. Но культовым он стал начиная с эпохи перестройки, после спектакля Льва Додина в МДТ в 1986 году. В середине 1990-х спектакль был снят с репертуара — официально якобы из-за кражи декораций (какому-то жулику приглянулись натуральные обломки самолета, и он сдал их на цветной металлолом). На сцену додинский «Повелитель мух» вернулся лишь в 2009-м и большого энтузиазма не вызвал.
Сам роман, однако, культового статуса все это время не терял. К нему апеллировали и апеллируют по самым разным поводам, используя его то как аргумент против рок-музыки, то как объяснительную модель дедовщины в армии. Сам феномен популярности английского романа 1950-х годов, выражающего невроз Второй мировой войны, в России 1980–2000-х заслуживает анализа. Он не укладывается в рамки увлечения «запретной» западной литературой (роман, как уже говорилось, вышел до перестройки, а в постсоветское время рынок зарубежной литературы насытился и пресытился, но популярность Голдинга лишь растет) и даже увлечения антиутопиями, которое в промежутке с середины девяностых по середину нулевых схлынуло.
Думается, на закате СССР роман Голдинга попал в очень специфический литературный и культурный контекст — переоценки событий 1917 года. На рубеже 1980–1990-х было опубликовано три знаковых документальных памятника — «Окаянные дни» Бунина, «Несвоевременные мысли» Горького и «Дневники» Зинаиды Гиппиус; их даже кое-где проходили в школе на уроках истории. Лейтмотив озверения, зафиксированный свидетелями исторических событий революции и гражданской войны, оказался созвучен основной теме Голдинга, а Джек Меридью неожиданно зарифмовался с Шариковым — «Собачье сердце»; и роман Булгакова, и экранизация Бортко вышли тогда же. Нет нужды говорить, что Булгаков описывал неудачную попытку очеловечить пса, а Голдинг — вполне удачное расчеловечивание белых детей цивилизованных буржуа (политкорректность киноверсии 1990 года, в которой на остров попадают представители разных рас, — сомнительное решение, поскольку ирония ситуации — обращение WASPов в дикарей — затушевывается).
Кроме того, востребованной оказалась библейская и вообще религиозная символика, тоже наконец-то разрешенная (то, как в позднесоветскую эпоху в роли суррогата религиозной литературы оказывались «Мастер и Маргарита», «Плаха» и чуть ли не «Альтист Данилов», может стать предметом отдельного исследования). Впрочем, уже в 1990-е Голдинга начинают мимоходом поругивать за недостаток христианского оптимизма — специфика протестантского мировоззрения британца оказывается малопонятной российской аудитории. И все же популярность романа устойчиво растет, о чем свидетельствует количество литературоведческих статей, в которых он упоминается.
 Двусмысленная притча Голдинга, о которой на родине автора спорят — религиозна она или антирелигиозна, направлена ли критика писателя на человеческую природу как таковую или только на несостоятельность европейской цивилизации — в постсоветской России оказалась воспринята главным образом как садомазохистское упоение идеей, что человек по своей сути зверь и варвар, морально незрелый и к свободе неготовый. В интерпретации П. Топера: «„Республика” не справляется с „народом”, между „вождями” начинается борьба за власть (чем больше они становятся похожи на взрослых, тем больше впадают в варварство). Главный персонаж повествования (Ральф), воплощение логики и справедливости, теряет свои позиции, его побеждает „охотник”, делающий ставку на силу, он устанавливает кровавую диктатуру, лишенную какой-либо „материальной” (социальной) логики, от которой первыми гибнут самые честные и слабые, спасение приходит только с неожиданно причалившим к острову кораблем. Выясняется, что Ральф, всегда требовавший, чтобы на острове круглые сутки горел костер, который можно было бы заметить с моря (то есть стремившийся восстановить связь с цивилизацией), действовал правильно; в качестве спасительного deus ex machina выступает не неисповедимый закон природы<...>, а обладающий разумом и силой офицер английского военного флота».
Двусмысленная притча Голдинга, о которой на родине автора спорят — религиозна она или антирелигиозна, направлена ли критика писателя на человеческую природу как таковую или только на несостоятельность европейской цивилизации — в постсоветской России оказалась воспринята главным образом как садомазохистское упоение идеей, что человек по своей сути зверь и варвар, морально незрелый и к свободе неготовый. В интерпретации П. Топера: «„Республика” не справляется с „народом”, между „вождями” начинается борьба за власть (чем больше они становятся похожи на взрослых, тем больше впадают в варварство). Главный персонаж повествования (Ральф), воплощение логики и справедливости, теряет свои позиции, его побеждает „охотник”, делающий ставку на силу, он устанавливает кровавую диктатуру, лишенную какой-либо „материальной” (социальной) логики, от которой первыми гибнут самые честные и слабые, спасение приходит только с неожиданно причалившим к острову кораблем. Выясняется, что Ральф, всегда требовавший, чтобы на острове круглые сутки горел костер, который можно было бы заметить с моря (то есть стремившийся восстановить связь с цивилизацией), действовал правильно; в качестве спасительного deus ex machina выступает не неисповедимый закон природы<...>, а обладающий разумом и силой офицер английского военного флота».
У Голдинга нет никакого «народа» — у него «племя», tribe; и спасение не заслуга Ральфа — на корабле замечают не его сигнальный костер, а дым от леса, подожженного Джеком. Неточности пересказа по-фрейдистски красноречивы: Ральф становится олицетворением интеллигенции, которая мечтала разумно и гуманно править диким «народом», но вынуждена спасаться от разбушевавшихся орд, призывая на помощь дядю в мундире. То есть сменить, видимо, плохого диктатора (Джека) на хорошего. Из Голдинга аккуратно делают Гершензона. Писана статья в 2000 году, и, пожалуй, можно догадаться, кого тогдашние читатели прочили на роль спасителя, «обладающего силой и разумом офицера» (у Голдинга никакой восторженности по поводу силы и разума нет).
По-видимому, это и есть причина успеха Голдинга в России. Из пессимистического заключения насчет человеческой природы достаточно легко вычитывается вполне консервативный посыл: человек — дитя малое, неразумное, его ни в коем случае нельзя предоставлять самому себе, иначе натворит бед. У Голдинга мысль о том, «как темна человеческая душа», тесно связана с протестантской традицией критической интроспекции: по его утверждению, он понимает нацистов потому, что «сам той же природы», и голдинговское недоверие к человеческой природе подразумевало в первую очередь недоверие к себе. Протестантский страх перед метафизической реальностью зла порой принимал у Голдинга трагикомические формы — как тогда, когда он в приступе белой горячки разорвал игрушечного Боба Дилана, приняв куклу за дьявола; несколько десятилетий спустя, когда Боб Дилан вслед за Голдингом получит Нобелевскую премию по литературе, российская интеллигенция в здравом уме и трезвой памяти будет пытаться устроить коллективный экзорцизм в соцсетях, спасая мировую литературу от грехопадения. Хотя с точки зрения здравого смысла, кому какое дело до предпочтений частной фирмы, не тратящей на премии ни цента из денег граждан, тем более наших?

Консервативный посыл Голдинга — скепсис в отношении человеческой природы и прогресса — на российской почве трансформируется в охранительный, в неявное, а затем и явное «тащить и не пущать», в желание примерить на себя роль элитарного защитника культуры и порядка от хаоса. Ибо все хотят видеть себя Ральфами, кому же хочется заподозрить в себе Джека? Гершензоновский дискурс необходимости спасать хрупкую цивилизацию от страшного варварского «народа» транслировался либеральной публицистикой на протяжении трех постсоветских десятилетий; идея о том, что свободные выборы непременно приведут к власти кровавую тоталитарную диктатуру, владела умами безраздельно до последних лет. Говорят, в новой версии спектакля Льва Додина, 2009 года, финал отягощен режиссерской новацией — объявившийся спаситель снимает шлем и оказывается... Джеком. Тем самым, от которого Ральф пытался убежать. Что это, как не констатация разочарования в гершензонианстве? Вряд ли возможна лучшая иллюстрация того, как воспринимается в России сюжет «Повелителя мух».
Остается ждать постмодернистского фанфика, в котором окажется, что никакой мировой войны не было, а вся история с детьми на необитаемом острове была циничным проектом политтехнологов, призванным доказать вред демократии.