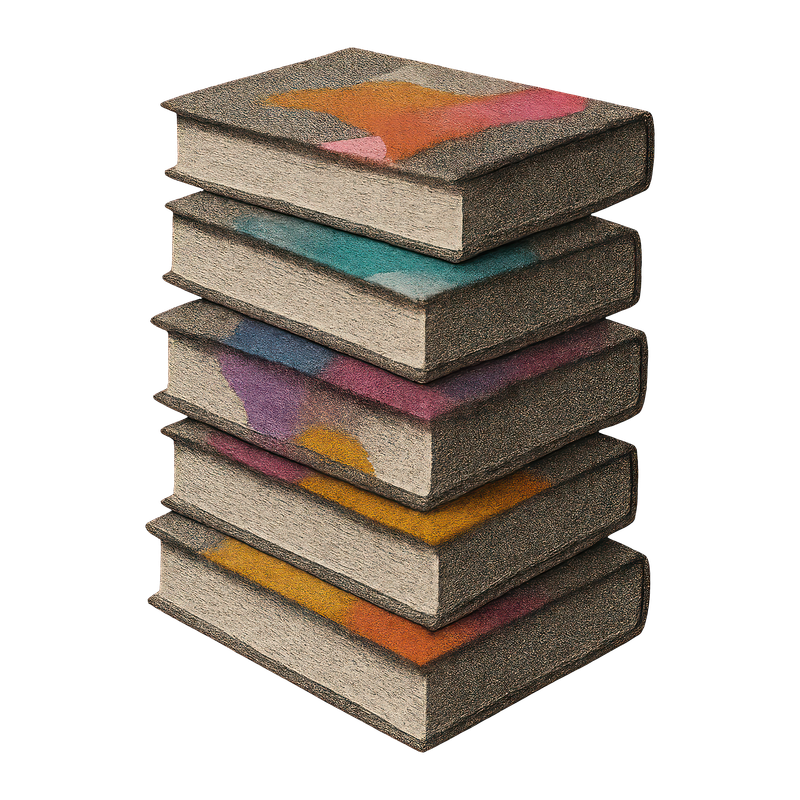Случайное разнообразие всего
Десять фактов из книги Марио Ливио и Джека Шостака «Код жизни»
Скорее всего, мы никогда не узнаем окончательный и исчерпывающий ответ на сложнейший вопрос о том, как возникла жизнь на Земле и, возможно, за ее пределами. Что не останавливает ученых от высказывания все новых и новых догадок, некоторыми из которых астрофизик Марио Ливио и биохимик Джек Шостак делятся в книге «Код жизни». Мы внимательно прочитали этот научно-популярный труд и выбрали из него десять фактов, поразивших наше воображение.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Марио Ливио, Джек Шостак. Код жизни. Как случайность стала биологией. М.: КоЛибри, 2025. Перевод с английского Анастасии Бродоцкой
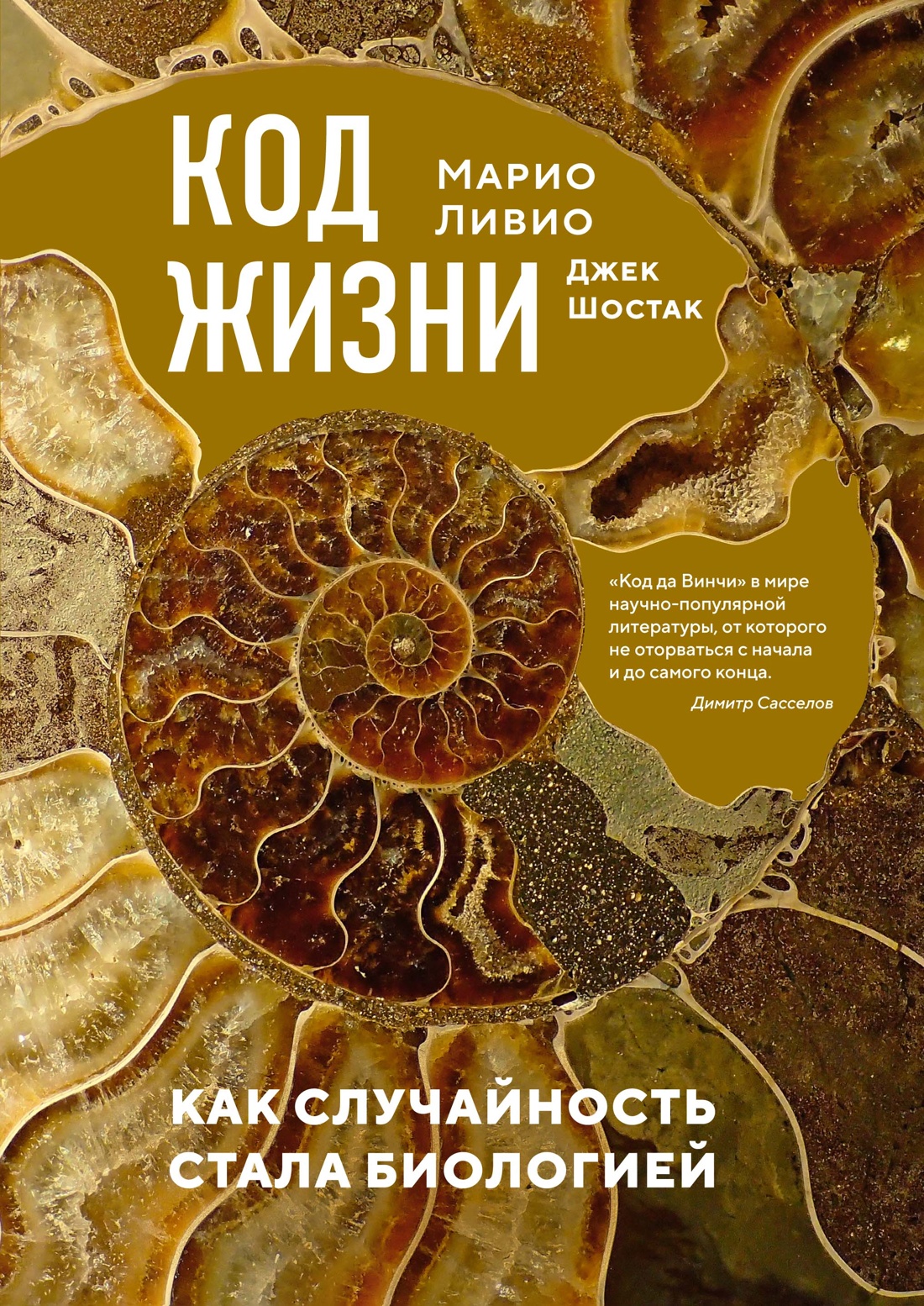
1. В основе жизни на Земле лежит яд. В настоящее время цианид считается наиболее вероятным соучастником появления простейших биологических кирпичиков. При содействии серы и ультрафиолета он образовал некоторые аминокислоты, нуклеотиды и, соответственно, раннюю версию РНК. По крайней мере, такая гипотеза, частично подтвержденная лабораторно, проясняет некоторые составные части большой загадки возникновения жизни.
«Многие ученые убеждены, что открытие надежного и реалистичного химического пути к синтезу активированных нуклеотидов заполнит крупный пробел в нашем понимании синтеза, копирования и репликации РНК. Наконец, завесой тайны по-прежнему покрыт синтез липидных компонентов мембраны протоклетки. Очевидно, что этот аспект предбиологической химии заслуживает большего внимания. Так или иначе, мы еще не у цели, но уже достигли той стадии, на которой нам предстоит выявить химически результативные пути ко всему строительному материалу живой материи».
2. Эволюция началась до возникновения простейших организмов. Судя по всему, одним из первых победителей в естественном отборе стала РНК, показавшая большую состоятельность в репродукции.
«Как только появился первый РНК-фермент, который положительно влиял на протоклетку, более точная и результативная репликация РНК-последовательности наверняка стала фаворитом естественного отбора. Эволюция более эффективных механизмов репликации позволила первобытной клетке сохранить более объемный геном, который мог кодировать дополнительные РНК-ферменты с новыми функциями. Такой каскадный эффект шаг за шагом обеспечил рост популяции протоклеток и подтолкнул их к исследованию других сред обитания».
Существует гипотеза, которая достаточно убедительно доказывает: протоклетки распространялись на большие расстояния благодаря воде и ветру, проникая в пыль и затем переносясь во влажную среду, где продолжали размножение. Доказать или опровергнуть эту версию экспериментально пока что не удалось, однако выглядит она все же убедительно, почему и получила наибольшее распространение среди других гипотез первобытной колонизации Земли.
3. Еще Чарльз Дарвин угадал, в каких именно условиях на нашей планете зародилась жизнь, не имея для того исходных данных. Английский натуралист писал: «Если бы (и о, как велико это „если бы“) мы могли представить себе, что в теплом озерце со всякого рода солями аммония и фосфорной кислоты, где достаточно света, тепла, электричества и т. п., возникло в результате химических реакций какое-то белковое соединение, которое претерпит дальнейшие сложные изменения, сегодня такое вещество мгновенно было бы съедено или поглощено, но этого не случилось бы, если бы такое произошло прежде, чем образовались живые существа!»
До конца непонятно, как именно он пришел к этому выводу, но он полностью соответствует современным общепринятым представлениям об этом процессе.
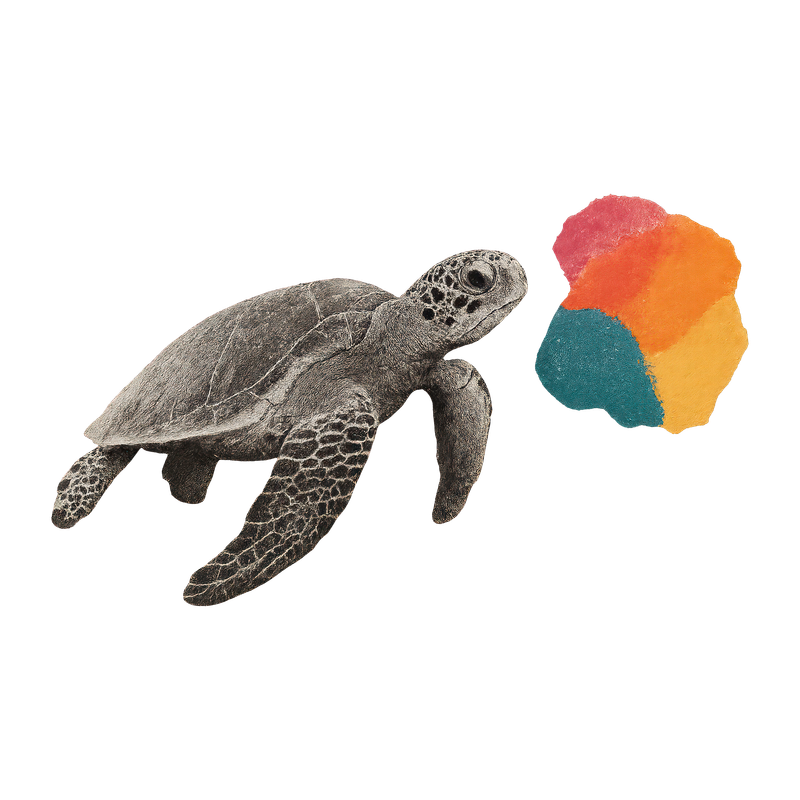
4. Возможно, для возникновения жизни не нужна вода. Такую более чем смелую гипотезу выдвинул, например, астробиолог Крис Маккей из Исследовательского центра Эймса при НАСА. Изучая атмосферу Титана, он пришел к выводу, что она содержит достаточное количество ацетилена, способного поставлять химическую энергию. На это указывает и снижение уровня углеводорода ближе к поверхности спутника Сатурна.
Если догадка американского ученого верна, это может означать, что на Титане происходят действительно интересные химические реакции, свидетельствующие о «признаках жизни» — впрочем, если это действительно так, то «жизнь» эта совершенно не похожа на земную. Гипотеза Маккея, конечно, не находит поддержки в научном сообществе, однако и полностью отметать ее, в отличие от многих подобных, специалисты не спешат.
«По выражению Марка Аллена, научного руководителя рабочей группы, которая занимается Титаном, при Астробиологическом институте НАСА, „научный консерватизм требует обращаться к биологическому объяснению в последнюю очередь, исчерпав все небиологические… Эти результаты с большей вероятностью объясняются химическим процессом без участия биологии, например реакциями с участием минеральных катализаторов“. Однако Маккей справедливо подчеркнул, что даже открытие небиологического катализатора, который действовал бы при низких температурах на Титане, само по себе произвело бы сенсацию».
5. Но для рождения жизни на Земле все равно было нужно ультрафиолетовое излучение — причем довольно узкого диапазона. И удивительным образом Солнце его обеспечило. Около четырех с половиной миллиардов лет наша с вами общая звезда была молодой и предоставляла оптимальное количество энергии для фотохимических процессов, которым помогали процессы геологические:
«Падение не очень большого астероида могло временно создать восстанавливающую, более реакционноспособную атмосферу, где преобладали водород, азот и метан. Пока она сохранялась, циановодород вырабатывался в больших количествах, после чего связывался и хранился на поверхности в виде солей ферроцианида. Затем, когда восстанавливающая атмосфера развеивалась и в составе атмосферы снова доминировал углекислый газ из вулканических выбросов, развеивалась и дымка, и до поверхности Земли снова доходило умеренное ультрафиолетовое излучение».
6. Форм жизни во Вселенной бесконечное множество. Но для доказательства этого необходимо найти хотя бы одну, отличную от земной. Согласно принципу «ноль-один-бесконечность», все, что может существовать, существует либо в единственном экземпляре, либо в бесконечном множестве.
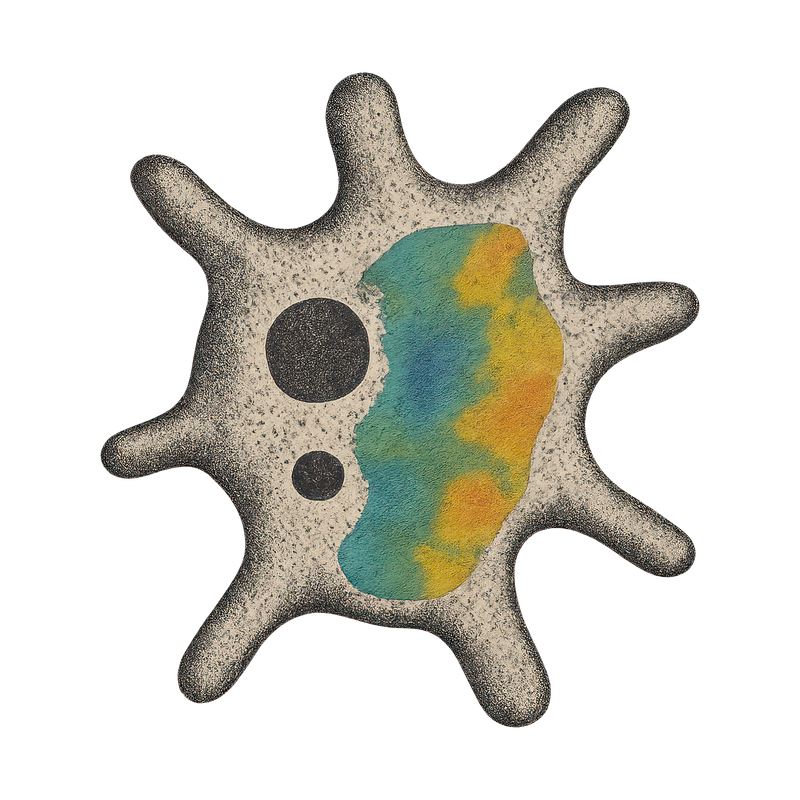
7. На южном полюсе Энцелада теплее, чем на экваторе, — причем сразу на 39 градусов Цельсия. Почему у этого спутника Сатурна такая особенность — хороший вопрос.
Первые ученые, обнаружившие аномалию, предположили, что дело в активности гейзеров, которые появились благодаря подледному океану. Однако вскоре появились скептики, объяснившие возникновение водного пара сублимацией льда. Дальнейшие исследования все же подтвердили, что правы, скорее всего, сторонники гипотезы об океане, температура которого равна 93 градусам Цельсия.
«Ко всеобщему восторгу, масс-спектрометр ионизированного и нейтрального вещества, с которым работают ученые из Юго-Западного исследовательского института в Техасе, и в самом деле показал, что в гейзерах содержится гораздо больше молекулярного водорода, чем можно было бы объяснить распадом более сложных молекул».
8. Ни одно научное открытие не носит имени своего автора. Это наблюдение называется в честь профессора статистики Стивена Стиглера, который сам признает, что «закон Стиглера» до него сформулировал экономист Роберт Мертон.
Ливио и Шостак вспоминают о нем в контексте знаменитого парадокса Энрико Ферми: «Если разумная жизнь во Вселенной существует, то почему она не посылает в космос никаких сигналов и вообще никак себя не проявляет?»
За семнадцать лет до того, как нобелевский лауреат поделился с коллегами этим полушуточным принципом, Константин Циолковский опубликовал вполне серьезную статью с аналогичной интуицией. Примечательно, что в этом же тексте советский визионер дал ответ на этот вопрос, который Ферми задал как риторический: внеземные цивилизации считают человечество недостаточно развитым, чтобы вступать с нами в полноценный контакт.
9. Вероятность зарождения жизни на планете равна одному шансу на сто квинтиллионов. Если записать это число цифрами, получится 1:100 000 000 000 000 000 000. И это самая оптимистичная оценка, предложенная астробиологом Полом Дэвисом — противником возможности существования жизни за пределами Солнечной системы.
Впрочем, Ливио и Шостак с ним не согласны. Дело в том, что в своих максимально приблизительных подсчетах Дэвис опирается на консервативную гипотезу, гласящую: для появления базовых форм жизни необходима правильная последовательность из десяти химических процессов, вероятность каждого из которых ученый условно оценивает в 1%. Новейшие данные, полученные экспериментальным путем, свидетельствуют об обратном.
«Лабораторные исследования говорят, что первые клетки, при всей сложности их структуры, могли возникнуть из смеси соединений, где доминировал необходимый строительный материал, а не из бесконечно разнообразных смесей, которые возникают, например, в ходе эксперимента Миллера — Юри. Соответственно, современные исследователи уже пытаются не воспроизвести пошаговый процесс, а создать полную картину пути к живой материи, которая сочетает в себе все данные исследований предбиологической химии с наблюдениями геологии, метеорологии и астрофизики».
10. «Вселенский фильтр» мог остаться для нас в прошлом. В 1996 году экономист Робин Хансон предположил, что существует некий «порог вероятности», лишь пройдя через который цивилизация может выйти на «космический» уровень. Это разрешает упомянутый выше парадокс Циолковского — Ферми: вероятно, лишь немногие разумные формы жизни способны преодолеть некий природный, социальный или политический катаклизм, поэтому мы и чувствуем себя одинокими во Вселенной.
Уровень технического прогресса, достигнутый человечеством, может свидетельствовать о том, что в нашем случае «вселенский фильтр» уже сработал, и мы его благополучно миновали. Но, что не менее вероятно, самое интересное нас еще ждет впереди — и нам это не понравится.