Слово психонавтам
Как жили и о чем писали «ветераны психических войн»: Ширянов, Радов, Пепперштейн
Начиная с Олдоса Хаксли, термин «психоделическая проза» использовался в западной литературе ХХ века по отношению к писателям, которые придавали видениям, фантазиям и галлюцинациям своих героев не меньшую ценность, чем реальным событиям их повседневной жизни. Когда с распадом Советского Союза на нашу страну обрушилась атмосфера вседозволенности, отдельные российские писатели тоже начали использовать элементы психоделической прозы в текстах. Намекая на то, что теоретически и сами они могли пережить некий уникальный визионерский опыт, эти писатели даже умудрялись вставлять в свои произведения сцены, которые сегодня не каждый рискнул бы запостить и в анонимный Telegram-канал. О жизни и творчестве трех таких писателей мы и расскажем вам сегодня.
Баян Ширянов
 Литературная слава пришла к писателю Кириллу Воробьеву, взявшему себе псевдоним Баян Ширянов, после того как его роман «Низший пилотаж» о жизни маргинальных слоев общества, изобиловавший ненормативной лексикой, порнографическими эпизодами и предельно реалистично описанными сценами саморазрушения, победил в сетевом конкурсе «Арт-Тенёта 97», одним из членов жюри которого был Борис Стругацкий. Роман заметило издательство Ad Marginem и опубликовало на бумаге тиражом в 5 000 экземпляров, а буйствовавшие в начале нулевых подростки из движения «Идущие вместе» обвинили Ширянова в пропаганде асоциального образа жизни и распространении порнографии и торжественно сожгли его книгу в унитазе. Благодаря «Идущим вместе» фамилию Ширянова начали употреблять через запятую с Пелевиным и Сорокиным, к творчеству которых его проза отношения имела мало.
Литературная слава пришла к писателю Кириллу Воробьеву, взявшему себе псевдоним Баян Ширянов, после того как его роман «Низший пилотаж» о жизни маргинальных слоев общества, изобиловавший ненормативной лексикой, порнографическими эпизодами и предельно реалистично описанными сценами саморазрушения, победил в сетевом конкурсе «Арт-Тенёта 97», одним из членов жюри которого был Борис Стругацкий. Роман заметило издательство Ad Marginem и опубликовало на бумаге тиражом в 5 000 экземпляров, а буйствовавшие в начале нулевых подростки из движения «Идущие вместе» обвинили Ширянова в пропаганде асоциального образа жизни и распространении порнографии и торжественно сожгли его книгу в унитазе. Благодаря «Идущим вместе» фамилию Ширянова начали употреблять через запятую с Пелевиным и Сорокиным, к творчеству которых его проза отношения имела мало.
«Низший пилотаж» (позднее к нему были написаны два аналогичных по структуре продолжения — «Срединный пилотаж» и «Верховный пилотаж») представляет собой сборник коротких рассказов — субкультурных баек из жизни современных алхимиков: людей, чьим смыслом жизни стало изготовление чудодейственного эликсира при помощи реагентов из аптек и магазинов бытовой химии. Этот эликсир давал им возможность сутками обходиться без сна, вести сложнейшие философские беседы и совершать невиданные сексуальные подвиги. С другой стороны, он же погружал их изможденный отсутствием отдыха разум в пучины психозов (называемых этими ребятами заморочками), когда им казалось, что они могут управлять летучими мышами или засовывать в сидящих на лавочке возле подъезда девушек нематериальные члены.
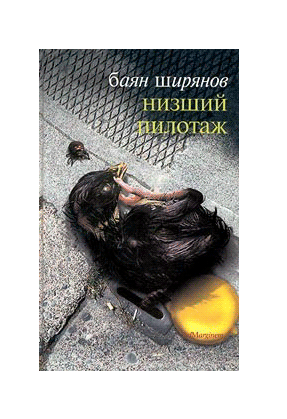 Напрягшись, Навотно Стоечко выбрал одну из мышей и накрыл ее голову телепатическим колпаком. Мышь резко захлопала крыльями и скрылась в голубятне. Она не признавала Навотно Стоечко. Раздосадовавшись, тот удвоил свои усилия. Поймав очередную мышь, Навотно Стоечко проник в ее нервную систему и дал, как бы изнутри, приказ сесть на этот классный насест, которым прикинулся сам Навотно Стоечко. Мышь задумчиво покружила вокруг головы Навотно Стоечко, но решила, что насест далеко не классный и полетела прочь.<...> Больше часа он пыхтел от натуги. Раздражался, успокаивался, пробовал различные способы. Продолжалось это до тех пор, пока не стало светать и все мыши не скрылись в своем жилище.
Напрягшись, Навотно Стоечко выбрал одну из мышей и накрыл ее голову телепатическим колпаком. Мышь резко захлопала крыльями и скрылась в голубятне. Она не признавала Навотно Стоечко. Раздосадовавшись, тот удвоил свои усилия. Поймав очередную мышь, Навотно Стоечко проник в ее нервную систему и дал, как бы изнутри, приказ сесть на этот классный насест, которым прикинулся сам Навотно Стоечко. Мышь задумчиво покружила вокруг головы Навотно Стоечко, но решила, что насест далеко не классный и полетела прочь.<...> Больше часа он пыхтел от натуги. Раздражался, успокаивался, пробовал различные способы. Продолжалось это до тех пор, пока не стало светать и все мыши не скрылись в своем жилище.
(Баян Ширянов, «Низший пилотаж»)
Типичный герой «Пилотажей» — ловкий трикстер, страдающий множеством вредных привычек, с заковыристым именем вроде Шантора Червица, Навотно Стоечко, Седайко Стюмчика или Зои Чумовоззз. Эти трикстеры с легкостью обводят вокруг пальца ментов и бандитов, с которыми нередко сталкиваются из-за характера своих увлечений, и всегда открыты к новым приключениям. Из довольно однообразной жизни реальных прототипов его персонажей, большая часть которой была посвящена поиску тех самых реагентов и употреблению эликсира, Ширянов выковыривал упоительные истории как изюм из булки. При публикации романа на бумаге Ширянов по просьбе издательства этот эффект сгладил, дописав к нему эпилог, описывающий несуразную гибель всех героев книги как последствие асоциального образа жизни.
«А здесь погиб Седайко Стюмчик... Глупо. Нелепо. <...> Ты втюхался и решил заняться физкультурой. Тебе было интересно, сколько раз твой изможденный организм сможет подтянуться на перекладине. Несколько раз ты это сделал, наверняка. Но потом ты не удержал свой вес и грохнулся об пол. Перелом основания черепа, сказали врачи. За тебя я тоже глотну противной теплой „Балтики”. Твоих окон с дороги не видно. Но они там, на первом этаже этой хрущобы».
(Баян Ширянов, «Низший пилотаж»)
Еще менее обаятельным образ жизни его персонажей выглядит после просмотра фильма Александра Бородыни «Низший пилотаж», где Ширянов и его друзья играли самих себя, и их облик трудно было назвать презентабельным.
Гораздо меньше «пилотажной» трилогии известны книги Ширянова в жанре «метафизического триллера», который сам он и изобрел. К этому жанру относится, например, трилогия «Пономарь», изданная на бумаге в конце девяностых. С первого взгляда «Пономарь» напоминает непритязательные бульварные боевики для чтения в электричках, но традиционные для такого жанра перестрелки и взрывы Ширянов заменил на энергетические атаки, а главного героя сделал экстрасенсом и народным целителем.
«Тексты Воробьева занимательны, неконвенциональны и дают симпатичный инсайт в народные представления об оккультной работе. Их кажущиеся недостатки (коммерциализация, неграмотность, отчужденность от литературной традиции) — на самом деле их достоинства. Коммерциализация как таран, ломающий клетки застарелого массового сознания; неграмотность как отказ от конвенций и литературных традиций — механизма зацикливания на порочном круге рекурсивной литературной рефлексии», — писал о «Пономаре» известный математик и культуролог Михаил Вербицкий.
Большой интерес до сих пор представляет и роман Ширянова «Могила Бешеного», где агент спецслужб и каратист, научившийся в тюрьме драться половым членом, противостоит экстремистской террористической организации «Русская национальная идея», планирующей взорвать все кольцевые станции московского метро. Помимо решения сугубо литературных задач Ширянов свел в этом романе счеты с более популярным коллегой по детективному цеху — автором цикла романов про Бешеного Виктором Доценко, выведенным под прозрачным псевдонимом Вектор Даценко, — посвятив немало страниц оскорблениям в его адрес и описав сцену позорной гибели детективщика от рук бандитов. При публикации романа на бумаге все касавшиеся Даценко фрагменты были трусливо вырезаны издательством. Ширянов даже пробовал себя в фэнтези про попаданцев, задолго до начала повальной популярности этого жанра написав в соавторстве с Кириллом Якимцом роман «Бар «Дракон», в котором, спасаясь от бандитов, молодой хакер попадает в мир, населенный разумными растениями.
Судьба Кирилла Воробьева оказалась трагической: с начала нулевых он не издавался на бумаге, а в последние годы жизни тяжело страдал от болезней, вызванных многочисленными вредными привычками, и скончался от цирроза печени в возрасте 52 лет.
Егор Радов
 «Написать „Властелина колец” языком Набокова», — такой была мечта почти забытого сегодня мастера психоделической прозы Егора Радова. Он вообще любил говорить, что литературе сейчас часто не хватает фантастики, а фантастике — литературы. Радов родился в семье литераторов (публициста Георгия Радова и поэтессы Риммы Казаковой), а его первой женой была специалистка по творчеству обэриутов Анна Герасимова, хиппующей публике больше известная как Умка из «Умки и Броневичка». Продолжателем литературной династии стал и их сын Алексей Радов, уже опубликовавший несколько книг, которые критики сравнивали с творчеством его отца.
«Написать „Властелина колец” языком Набокова», — такой была мечта почти забытого сегодня мастера психоделической прозы Егора Радова. Он вообще любил говорить, что литературе сейчас часто не хватает фантастики, а фантастике — литературы. Радов родился в семье литераторов (публициста Георгия Радова и поэтессы Риммы Казаковой), а его первой женой была специалистка по творчеству обэриутов Анна Герасимова, хиппующей публике больше известная как Умка из «Умки и Броневичка». Продолжателем литературной династии стал и их сын Алексей Радов, уже опубликовавший несколько книг, которые критики сравнивали с творчеством его отца.
В 18 лет Егор Радов написал рассказ «Я и моржиха» о парне, влюбившемся в ластоногую самку и похитившем ее из зоосада. «Когда я поставил точку, мне стало страшно. Я почувствовал, что перешел некую грань, вступил в какие-то сферы, где текст уже не является просто текстом, литературой, но чем-то большим, тем, что способно изменить образ мира. Наверное, это и было настоящим началом», — вспоминал он позже в интервью. В 20 лет — роман «Я», где, чтобы спасти разум находящегося на лечении в психиатрической клинике Егора Радова, врачи вводят ему внутривенно трех уменьшенных до микроскопического размера Ивановых, которые должны пройти путями кровотока и добраться до обезумевшего мозга.
В гностическом романе «Змеесос», жанр которого автор определял как «метафизический панк», два придурковатых демиурга — Лао и Яковлев — развлекаются созданием и уничтожением миров до тех пор, пока не обнаруживают, что часть мироздания непостижимым образом оказалась неподвластна их воле. Для того чтобы разобраться в случившемся, демиурги создают своего «мессию» — Мишу Оно — и отправляют его в земной мир. Не знающий о своем предназначении Миша Оно заражается смертельной болезнью «копцом», попадает в секту муддистов, участвует в заговоре по свержению диктатора, устраивается на работу на завод «раздвигателем пупочек» и переживает ряд других приключений, в абсурдистской форме отражающих бренность и бессмысленность человеческого существования.
Иоганн Шатров упал из окна и разбился. Лао и Яковлев были богами, они сидели в буйстве сущностных облаков и сотворяли все, что могло быть в наличии. Однажды было скучно, и Яковлев, словно намыливаясь благовонием астрала, приобретал конкретную оболочку, которая говорила:
— Лао, придумай мне мир, ибо Я есть Все!
(Егор Радов, «Змеесос»)
В романе «Якутия» жители этой северной страны, получившей независимость после распада империи Советская Депия, решают присоединить ее к Америке и разбогатеть на торговле алмазами. Связь с американцами ведется посредством радиошифровок, при этом каждый из радистов, передающих информацию по цепочке, знает только предыдущего и следующего агента. Чтобы узнать, почему радиограммы однажды перестали поступать, главные герои — Софрон Жукаускас и Абрам Головко — отправляются в путешествие через раздираемые гражданской войной между коренными народами малого Севера бескрайние просторы Якутии. В этом путешествии им встретятся собиратели галлюциногенных цветов «жэ», безжалостные заворачиватели, цари, поэты и безумцы.
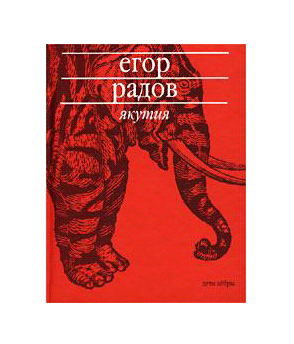 Они ехали в автобусе, и за окнами простиралась великая Якутия, таинственная, словно призрак неведомых земель. <...> Дорога была длинна, как жиденькая борода какого-нибудь мифологического старца, и начинались сумерки, печальные, будто признание в нелюбви. <...> Позади остались чудовищные тунгусские пытки и трупы; впереди была головокружительная неизвестность, и осознание ее неизбежности рождало ноющий, словно боль, страх. Штаны с дерьмом остались там же, где и мертвый Идам, и с их утратой кончились иллюзии, жалобно-требовательное отношение к жизни, ощущение своей неповторимости и бессмертия, и отчаянная жажда существовать.
Они ехали в автобусе, и за окнами простиралась великая Якутия, таинственная, словно призрак неведомых земель. <...> Дорога была длинна, как жиденькая борода какого-нибудь мифологического старца, и начинались сумерки, печальные, будто признание в нелюбви. <...> Позади остались чудовищные тунгусские пытки и трупы; впереди была головокружительная неизвестность, и осознание ее неизбежности рождало ноющий, словно боль, страх. Штаны с дерьмом остались там же, где и мертвый Идам, и с их утратой кончились иллюзии, жалобно-требовательное отношение к жизни, ощущение своей неповторимости и бессмертия, и отчаянная жажда существовать.
(Егор Радов, «Якутия»)
Радов выкручивал сюжеты своих книг горнолыжной трассой, менял имена героев просто потому, что они ему надоедали, и издевался надо всем — от общепринятых истин до канонов построения повествования и ожиданий читателей. При всей фантастичности сюжетов проза его была очень экзистенциальна: главные герои отчаянно пытались обрести смысл бытия в распадающемся мире, но вместо него обнаруживали только беспросветный идиотизм реальности и всех форм человеческой деятельности.
Впрочем, мир настолько же бессмысленен, как и прекрасен. Согласно философии «мандустры», изложенной в «Змеесосе», мандустриально, то есть имеет равнозначную трансцендентную прелесть, всё: многочисленные пытки, убийства и казни, описанные в романе, призваны проиллюстрировать эту мысль, продемонстрировав ее на крайних примерах.
Густотой своего слога, то скатывающегося почти в канцелярит, то блещущего афоризмами, Радов напоминал другого великого безумца русской литературы — Андрея Платонова, на творчество которого он вполне очевидно больше всего из классиков и ориентировался. Отдельное удовольствие читателю и головную боль переводчику, который когда-нибудь, возможно, возьмется за эти тексты, будут доставлять радовские успехи на почве словообразования — все эти «мандустры», «заелдызы», «аздрюни» и «уажау» не меньше «убеш щура» Крученых достойны войти в историю русской зауми.
Когда литературным критикам девяностых требовалось придумать, рядом с какими ярлыками им поместить книги Радова, чаще других им приходили на ум имена Филипа Дика и Уильяма Берроуза. С последним Егора Радова роднили не только любовь к фантасмагорическим сюжетам и резким монтажным склейкам, но и опаснейшая зависимость, которой оба писателя посвятили многие годы жизни и страницы прозы.
Начавшись как несерьезное, приятное, забавное занятие, это увлечение постепенно и как-то подспудно захватило все мое бытие, уже почти заменив собой и творчество, и любовь, и изначальную радость чувствования реального вещного мира, и честолюбивое стремление состояться, которое и движет нормального человека вперед — к триумфу, путешествиям и наслаждению собственной значимостью.
(Егор Радов. Из цикла «Две тысячи световых лет от дома»)
 Римма Казакова и Егор Радов. 1990-е годы
Римма Казакова и Егор Радов. 1990-е годы
От смертельного опасного «увлечения» Радову, по его словам, удалось исцелиться по методу психиатра Зобина — хирургическим блокированием рецепторов мозга, отвечающих за формирование такой зависимости. Я не знаю, есть ли научные основания у метода Зобина, зато подозреваю, что именно способность создавать из слов удивительные миры была для Радова одним из ресурсов, позволявших сопротивляться болезни: в конце концов, именно словами «Искусство — это кайф» он назвал один из сборников своих рассказов.
В последнем изданном при жизни и — будем честны — наиболее слабом романе Радова «Суть» именно опыт тяжелейшей зависимости помогает герою спасти мир от превращения в чистую энергию. В республике Коми журналист и бурильщик обнаруживают месторождение сияющей породы — субстита. Это чистая суть всех явлений — коровы, леса, Земли, мотылька, члена политбюро КПСС — первооснова бытия, избавленная от каких-либо акциденций. Суть постепенно поглощает и пространство, и людей, которые, сливаясь с ней, испытывают невероятный экстаз. Таким манером суть, казалось бы, постепенно должна была сожрать всю Вселенную, которая вернулась бы в изначальное состояние без времени и пространства, если бы ей не помешал человек, которому и без того было известно, что бытие может представлять собой чистейший экстаз.
Роман «Суть» был опубликован в 2003 году: в том же издательстве Ad Marginem параллельно выходили тома «Ледяной трилогии» Владимира Сорокина, написанной на очень похожую тему, и на их фоне она прошла практически незамеченной. При жизни Радов больше книг не публиковал. В том же году, проснувшись утром, он обнаружил рядом с собой остывшее тело своей третьей жены Таисии, умершей во сне от сердечного приступа. В этот же день, 5 февраля, ровно шесть лет спустя скончался в Гоа и сам Радов.
Последний роман Радова — «Уйди-уйди», названный так в честь резиновых игрушек, которых Хоттабыч клятвенно обещал не бояться пионеру Вольке, был опубликован уже после его смерти: в нем есть три цивилизации, обитающие на Юпитере, геноцид одной из них, две Вселенные, а также несколько проверенных средств для расширения сознания. Как и многие тексты Радова, роман «Уйди-уйди» был проникнут ощущением того, что из зримой реальности вполне можно свалить вверх и куда-то вбок, как сбежал когда-то от Лао и Яковлева один из героев «Змеесоса».
Павел Пепперштейн
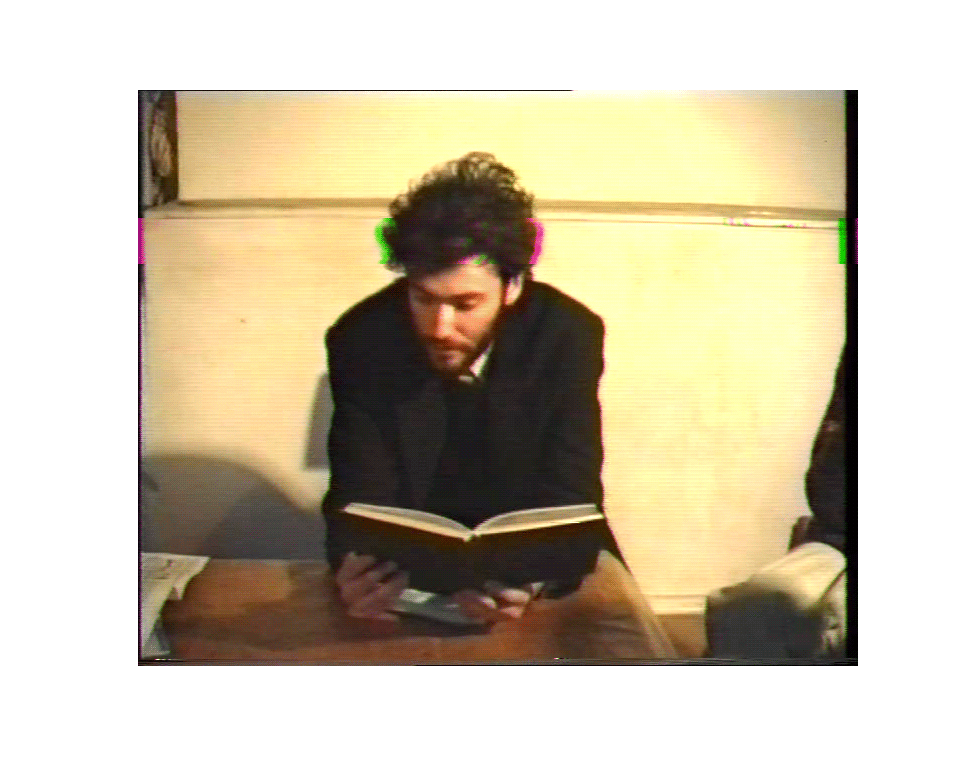
Подобно человеку Возрождения, концептуалист Павел Пепперштейн преуспел на ниве сразу нескольких искусств — и литературы, и живописи. Основанная в 1987 году одесситами Сергеем Ануфриевым и Юрий Лейдерманом и москвичом Пепперштейном арт-группа «Инспекция «Медицинская герменевтика» (автором этого словосочетания был будущий известный журналист Антон Носик) занималась как изготовлением художественных объектов и проведением перформансов, так и написанием текстов. В конце восьмидесятых медгерменевты развлекались сочинением историй о психоделических похождениях парторга Владимира Дунаева. При этом они ориентировались на одну из первых в Советском Союзе записей приключений внутри собственного сознания — эпическую автобиографическую повесть Андрея Монастырского «Каширское шоссе», в которой он описывал, как заболел шизофренией и самостоятельно от нее вылечился.
Из этих зарисовок десять лет спустя родится opus magnum Пепперштейна — грандиозная двухтомная эпопея «Мифогенная любовь каст» (первый том написан в соавторстве с Сергеем Ануфриевым). События Великой Отечественной войны раскрываются в ней с точки зрения советского парторга, ставшего волшебником и сражавшегося с нацистскими захватчиками во всех возможных мирах и пространствах.
По мнению критика Льва Данилкина, Пепперштейну удалось то, что не получилось у Гроссмана, Солженицына и Астафьева: написать «Войну и мир» про 1941–1945 годы, сказав о Великой Отечественной войне окончательную правду. Добиться этого невероятного эффекта ему удалось, поместив события войны в сознание галлюцинирующего раненого парторга.
После того, как контуженный и оторвавшийся от войск парторг Дунаев съедает в лесу подозрительные грибы, он попадает в хтонический мир русского фольклора, населенный попорченными зайцами, липкими мишками и другими малоприятными персонажами. В таком лесу можно добрести до избушки, где собак на цепи кормят дождевыми червями и зовут Боборыками, а лица у этих собак человеческие. Начавшись как по-сорокински ерническая стилизация под военную прозу, текст превращается в мамлеевскую жуть.
 Дунаев проходит инициацию и учится колдовать. Понимает, что никаких людей нет. Узнает, что на стороне нацистов сражаются персонажи авторских сказок: принимающий облик Геринга жирный летчик Карлсон, Фея Убивающего Домика, похотливый Петька-Самописка, Гудвин и множество прочих отбросов общества и преступников. Для того чтобы защищать Родину, Дунаев собирает партизанский отряд из персонажей сказок русских народных: Лисы Патрикеевны, Избушки на курьих ножках, Бабы-Яги и многих других.
Дунаев проходит инициацию и учится колдовать. Понимает, что никаких людей нет. Узнает, что на стороне нацистов сражаются персонажи авторских сказок: принимающий облик Геринга жирный летчик Карлсон, Фея Убивающего Домика, похотливый Петька-Самописка, Гудвин и множество прочих отбросов общества и преступников. Для того чтобы защищать Родину, Дунаев собирает партизанский отряд из персонажей сказок русских народных: Лисы Патрикеевны, Избушки на курьих ножках, Бабы-Яги и многих других.
Попадает в Брест, Смоленск, Киев, Москву и блокадный Ленинград, переламывает ход войны, останавливая магией нацистские танки вместе со спасенным им из советской психиатрической больницы Кощеем Бессмертным в мясорубке Сталинградской битвы. Превращается в Колобка и отправляется в странствие по сокрытому под кремлевскими стенами миру.
Плотность текста и масштаб происходящих в нем приключений были просто невероятны, огромным было и количество интертекстуальных отсылок в диапазоне от «Поисков утраченного времени» Пруста до древнекитайского эпоса «Путешествие на Запад», сделавшее МЛК культовым текстом среди студентов-филологов.
«Как налетел ветер, дующий в Глубокую Сторону, раскрутили мы меньшого за резиновые ножки и метнули в Творог, где Священство у нас оседает. Меньшой полетел и воткнулся железными ушами в Творог, и застрял, и как начал гнить и разлагаться, так в белом Твороге, который Священство блюдет и слезами своими солит, образовалась тухлая дыра, которой и дали имя Овражек. Через ту дыру и поперло сейчас на Русь немецкое лихо, или просто Колени да Локти, как у нас говорят. Кабы не пляски Незнамо Кого на том месте, сразу бы от смертолюбивых Коленей пришел бы всем полный <...> (конец).
 Вот какое я дело сделал, чтобы Священство оскорбить. А все от того, что имел зуб. Когда молод был, имел ушки, между собой соединенные, как странички, а на них Записи, а сам я был как Книжечка. Души же у меня не было никакой, и я много-много спал. А священство подходило, когда я спал, и слизывало Записи, и когда слизало их, то и стало Священством, и поселилось в Центральном Твороге, в самом жирном да сытном месте. А до того оно не было Священством, а было Крепышами и Пострелами, о которых уже не помнят ничего. А я проснулся, и ушки у меня стали без Записей, разъединенные, двойные, и появилась у меня душа, да такая подлая, что не приведи Господь!»
Вот какое я дело сделал, чтобы Священство оскорбить. А все от того, что имел зуб. Когда молод был, имел ушки, между собой соединенные, как странички, а на них Записи, а сам я был как Книжечка. Души же у меня не было никакой, и я много-много спал. А священство подходило, когда я спал, и слизывало Записи, и когда слизало их, то и стало Священством, и поселилось в Центральном Твороге, в самом жирном да сытном месте. А до того оно не было Священством, а было Крепышами и Пострелами, о которых уже не помнят ничего. А я проснулся, и ушки у меня стали без Записей, разъединенные, двойные, и появилась у меня душа, да такая подлая, что не приведи Господь!»
(Павел Пепперштейн, «Мифогенная любовь каст»)
При этом, в отличие от Пелевина, Сорокина или того же Ширянова, Пепперштейну удалось даже поразительным образом избежать упреков в разрушении русской культуры, хотя, например, от сцены, где парторг Дунаев спасает в блокадном Ленинграде девочку от голодной смерти, откармливая ее своей спермой, многих профессиональных патриотов и сегодня мог бы хватить инфаркт.
Для описания своего творчества Пепперштейн придумал термин «психоделический реализм»: наполнение галлюцинаторным содержанием традиционных форм классического искусства. По мнению чешского филолога-слависта Томаша Гланца, ключевым отличием психоделического героя Пепперштейна от его описанных у Кастанеды или Берроуза предшественников было отсутствие расплаты за кайф: парторг Дунаев и его трипы были наделены волшебной легкостью, за бездны метафизических прозрений ему не приходилось расплачиваться серьезными страданиями.
Читателю вообще нетрудно будет заметить, что из всех наших героев именно судьба Пепперштейна оказалась самой счастливой: в последнее время у него каждый год выходят новые книги и открываются крупные выставки, а в своих интервью он остается стабильно остроумен и загадочен.
Следует ли из этого, что гипотетические вредные привычки Павла Пепперштейна оказались гораздо менее разрушительными для его организма, чем вредные привычки, от которых страдали Егор Радов или Баян Ширянов? Ответ на такой вопрос находится далеко за рамками этой статьи.