Славяне — народ будущего, завоеватели мира после германцев
«Инструкция по выживанию» от Кнута Гамсуна
О России и русских
Я побывал в четырех из пяти частей света. Конечно, я путешествовал по ним немного, а в Австралии я и совсем не бывал, но можно все-таки сказать, что мне приходилось ступать на почву всевозможных стран света и что я повидал кое-что; но чего-либо подобного московскому Кремлю я никогда не видал. Я видел прекрасные города, громадное впечатление произвели на меня Прага и Будапешт; но Москва — это нечто сказочное!
* * *
В Москве около четырехсот пятидесяти церквей и часовен, и когда начинают звонить все колокола, то воздух дрожит от множества звуков в этом городе с миллионным населением. С Кремля открывается вид на целое море красоты. Я никогда не представлял себе, что на земле может существовать подобный город: все кругом пестреет зелеными, красными и золочеными куполами и шпицами. Перед этой массой золота в соединении с ярким голубым цветом бледнеет все, о чем я когда-либо мечтал. Мы стоим у памятника Александру Второму и, облокотившись о перила, не отрываем взора от картины, которая раскинулась перед нами. Здесь не до разговора, но глаза наши делаются влажными.
* * *
Я выучился говорить «щи». Не многие способны выучиться этому, но я выучился. И я умею писать это слово не так, как немцы, без «сии». Щи — это суп из мяса. Но это не обыкновенный говяжий суп, который никуда не годится, а прекрасное русское блюдо со всевозможной говядиной, яйцами, сливками и зеленью.
* * *
В некотором отдалении от меня сидят несколько добродушных пожилых людей, они едят и мирно болтают. И лица у них не безобразные и не сморщенные, какие обыкновенно бывают у стариков, а, напротив, открытые и здоровые, и волосы у них густые. «Славяне, — думаю я и смотрю на них, — народ будущего, завоеватели мира после германцев! Неудивительно, что у такого народа может возникнуть такая литература, как русская, литература безграничная в своем величии и поразительная! Она получила питание из восьми неиссякаемых источников, — от своих восьми гигантов — писателей. Нам давно надо было бы обратить на них внимание и постараться ближе ознакомиться с ними. Но что касается театрального хозяйства, то это они предоставляют другим поэтам».
* * *
...вдруг ни с того ни с сего я встаю, иду к иконе, кланяюсь и крещусь, как это делали другие. Ни слуги, ни посетители не обращают ни малейшего внимания на это, и я не чувствую никакой неловкости и возвращаюсь на свое место. Меня всего заполняет чувство радости при мысли о том, что я нахожусь в этой великой стране, о которой я так много читал, и это чувство выражается в какой-то внутренней необузданности, которую я в это мгновение не стараюсь даже сдерживать.
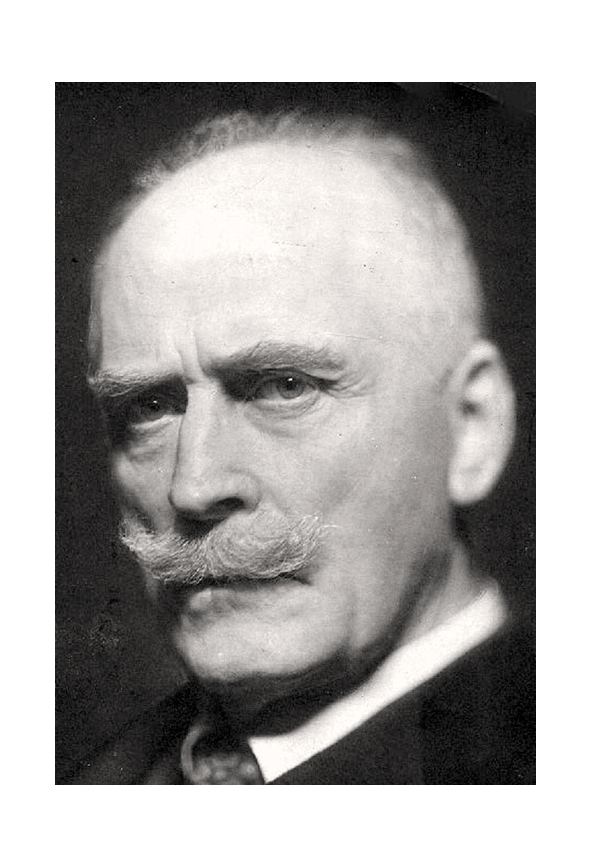 Кнут Гамсун, 1932 год
Кнут Гамсун, 1932 год
* * *
Я стою и думаю об этом офицере и о мужиках. По всей вероятности, он их хозяин, может быть, ему принадлежит и та деревня, в которой мы только что останавливались, а может быть, ему принадлежит также и тот замок, который мы видели утром, и обширная площадь чернозема, по которой мы проезжали. «Стоять!» — сказал он мужикам, и они остановились. Когда однажды в Петербурге грозная толпа преследовала на улицах Николая Первого, то он только обернулся, вытянул руку и крикнул своим громовым голосом: «На колени!». И толпа опустилась на колени. Когда человек умеет приказывать, его слушаются. Наполеона слушались с восторгом. Слушаться — это наслаждение. И русский народ способен еще на это.
* * *
...мы узнаём, нельзя ли нам получить воды. Тут горничная ничего не понимает. Мы стараемся объяснить ей это на все лады, и наконец она делает открытие, что речь идет о воде. Но тут оказалось, что глупыми-то оказались мы сами. Горничная ставит только босую ногу на педаль в умывальнике, и из крана вылетает струя воды. Так здесь устроены умывальники; в России всегда моются в проточной воде, и это нам следовало бы помнить по Москве. «Ведь вы, иностранцы, моетесь в вашей собственной грязи», — говорят русские.
О семечках
Подсолнечники разводят в южной и средней России ради подсолнечного масла. Из лепестков цветов варят варенье, которое считается большим лакомством. Все здесь жуют подсолнечное семя, выплевывая шелуху. Для местного населения это заменяет собою наш жевательный табак, но семя чище и занятнее. Кондуктор стоит и добродушно грызет семечки, прорезая наши билеты, извозчик на козлах, приказчики за прилавками, а также и почтальоны, переходя от двери к двери со своими письмами, — все грызут подсолнечное семя, выплевывая шелуху.
О русской литературе
Русское творчество в своем целом так обширно, что его трудно обнять. Оно несколько широко — это происходит от широкого простора русской земли и русской жизни. Это — необозримый простор, куда ни поглядишь.
* * *
Достоевский воображал себя гением и работал над своим развитием, и ушел так далеко, что никто еще не возвысился до него. Бог знает, что было бы, если бы Достоевский не воображал себя гением, — может быть, он не решался бы браться за разрешение величайших задач. И вот он написал двенадцать томов, которые нельзя сравнить ни с какими другими двенадцатью томами. Нет, ни с какими двадцатью четырьмя томами! Вот, например, у него есть маленький рассказ под заглавием «Кроткая». Это крошечная книжка. Но она слишком велика для всех нас, она недосягаема для нас по своему величию. Пусть все признают это.
* * *
«Война и мир», «Анна Каренина» — более великих произведений в своем роде никто не создавал. И нет ничего удивительного в том, что впечатлительный коллега даже на своем смертном одре просил великого писателя создать еще больше таких произведений. Размышляя над всем этим, я с радостью понимаю и с радостью готов простить Толстому его отвращение к созданию самых великолепных художественных произведений для человечества. Поставлять изящную литературу могут другие, кто чувствует себя хорошо при этом, кто высоко ставит эту деятельность и находит в ней великую честь. Но против чего я по своему разумению восстаю, так это против тщеславной попытки великого писателя сочинять философию, мышление. Вот это-то и искажает его положение в позу. Он разделяет участь Ибсена. Ни тот, ни другой не мыслители, но оба они стоят на одной ноге и хотят быть мыслителями. Они думают, что это придает им больше цены...
Философия Толстого — это смесь старых избитых истин и поразительно несовершенных собственных измышлений. Недаром он принадлежит народу, который за всю свою историческую жизнь не дал человечеству ни одного мыслителя. Точно так же, как и народ Ибсена. Как Норвегия, так и Россия создали много великого и хорошего, но обе страны не дали человечеству ни одного мыслителя. Во всяком случае, до появления двух великих писателей, Толстого и Ибсена.
 Кнут Гамсун, 1936 год
Кнут Гамсун, 1936 год
О Кавказе и его обитателях
Лезгин, или черкес, или как их там, стоит у каждого навеса, сильно вооруженный, и мирно продает виноград и папироски; за поясом у него сабля, кинжал и пистолет. По аллее из акаций ходит взад и вперед много народа, изредка кто-нибудь покупает что-нибудь, но по большей части люди просто гуляют, напевают про себя или молча мечтают, некоторые останавливаются под деревьями и стоят неподвижно. Чем дальше на восток, тем меньше люди говорят. Древние народы преодолели потребность болтать и смеяться, они молчат и улыбаются. Так, может быть, и лучше. Коран создал миросозерцание, которое нельзя обсуждать на собраниях и о котором нельзя спорить. Это миросозерцание выражается следующим образом: счастье заключается в том, чтобы перенести жизнь, потом будет лучше. Фатализм.
* * *
Перед одним из навесов, сидит человек и тренькает на балалайке, которая издает простые, неопределенные звуки — это музыка доисторических времен. Мы думаем: как хорошо, что он сидит и наигрывает. Своей игрой он доставляет нам маленькое развлечение, а раз он не перестает играть, то, значит, и он сам находит в этом удовольствие. Что за странный народ живет в этой необыкновенной стране! Он находит время играть, и у этих людей есть способность держать язык за зубами. Да благословит Бог такие страны, раз они существуют еще на свете! У такого народа не может быть лучшего соседа, нежели славянин, ибо у самого славянина в груди звучат струны. Когда греки около 500 года воевали с арабами, то они взяли однажды в плен целый отряд своих врагов. Среди пленников были три славянина. У этих славян были в руках только гусли — это было их оружие...
* * *
До чего только ни дошли мы, европейцы, — мы с радостью ложимся, и кровати наши полны подушек и одеял. Мало того, мы начинаем даже тосковать по зиме после нашего короткого лета в несколько недель, и нас радует снег и мертвый покой природы. Никого не угнетает сознание того, что лето миновало, никто не страдает от этого и не горюет. Понятия так извращены, что не знаешь, что и думать. Худшее осуждение жизни заключается в том, что никто не печалится о ее смерти. А когда желание наше удовлетворено и снова наступает зима, то мы не удаляемся тихо в берлогу, что было бы вполне естественно, — нет, мы работаем, стремимся к нашим целям, мы продолжаем копошиться в снегу. И в долгие вечера, когда ничто живое не двигается, страшась мороза, тогда мы топим наши печи и читаем. Мы читаем романы и газеты. Но древние народы не читают, они проводят ночи под открытым небом и тихо наигрывают песни. Вон тот человек сидит себе под акацией, мы видим его и слышим его игру — вот в какой стране мы очутились. Когда один варварский император европеизировался, то он начал пользоваться Кавказом как местом ссылки. И он ссылал сюда преимущественно поэтов.
* * *
Новые грузинские поселки. Такой поселок по большей части представляет собою нечто общее, состоящее из множества жилищ, ютящихся друг возле друга, как попало, на горе. Они не разделены улицами или хотя бы даже узкими дорожками, а лишь лестницами, и расположены словно полки друг над другом и друг возле друга, и как бы врыты в склоны горы. В домах нет окон и никаких других отверстий, за исключением дверей и отверстия в крыше над очагом. Крыши плоские, из дерна или из плитняка. Здесь женщины проводят время, сидя на подушках, они пляшут и играют тут же, и семья не покидает крыши ни днем, ни ночью, если только позволяет погода. У всех грузинских деревушек такой вид, словно над ними только что пронесся ураган, который снес верхнюю часть со всех домов.
* * *
Одна деревня следует за другой. В каждой деревне нас обступают нищенствующие мальчики. Эти малыши клянчат с такой назойливостью, которую мы встречали еще только в Турции. Опять на одном поле стоят женщины и жнут ячмень. Более пожилые скромно смотрят в землю и продолжают работать, но одна молодая девушка выпрямляется, смотрит на нас и улыбается. На ней голубой сарафан, и волосы повязаны красным платком, ее белые зубы сверкают, глаза у нее черные. Когда ей надоедает смотреть на нас, то она перестает улыбаться, равнодушно вскидывает головою и отворачивается. У нас невольно вырывается восклицание — молодая девушка привела нас в восторг своим движением головы.
* * *
Туша лошади, вздутая, языческая, отвратительная, продолжает лежать на краю дороги, две собаки сидят и сторожат ее. Через несколько времени появляется человек с большими клещами в руках. Это молодой человек, он поворачивает вздувшийся шар, он возится с трупом лошади и шутит, покрикивая «тпру», когда туша не слушается его и перекатывается слишком быстро. Так, пожалуй, он не обращался бы с христианским трупом. Потом он снимает подковы с павшей лошади; вскоре после этого появляется Корней, и они приготовляются сдирать с лошади шкуру. Почему бы и нет?
Они начинают вдвоем сдирать шкуру и взрезают кожу на брюхе и на ногах. Корней работает молча, но молодой человек жалуется, что плохо видно, он смотрит на небо, ворчит и как будто говорит с укором: «А он сегодня плохо заправил лампу!». Потом молодой человек уходит и возвращается с фонарем. С ним приходит несколько человек постарше, словно они почуяли, что от него пахнет свежинкой, и их неудержимо потянуло за ним. Мы стоим все вокруг павшей лошади и смотрим.
Вдруг несколько человек вынимают свои кинжалы из ножен и начинают также сдирать шкуру. Видимо, это доставляет им величайшее наслаждение, они щупают руками обнаженное мясо и греются о него, и при этом они глухо и возбужденно смеются. Неужели в них проснулся язычник?
Шкуру быстро содрали с павшей лошади, и подъехала другая лошадь с телегой, чтобы увезти падаль. Но тут один разохотившийся горец вонзает в брюхо животного свой нож и вспарывает его. У всех вырывается подавленный возглас, как невольное выражение восторга, и вскоре многие начинают рыться руками во внутренностях лошади, и при этом они громко говорят, как бы желая перекричать друг друга. Сам Корней не принимает во всем этом никакого участия, он слишком христианин для этого, он даже отбрасывает от себя поганую шкуру, не желая иметь с ней никакого дела. Но он смотрит на свежевание, и в глазах его вспыхивает огонек.
К группе подходит еще один человек, мы не верим нашим глазам — это хозяин станции. Неужели и он присоединится к другим? Он приостанавливает свежевание и просит у Корнея разрешения взять себе часть туши. Корней отворачивается и отказывает ему. Хозяин сует ему в руку деньги, и Корней снова отворачивается, но деньги берет. После этого хозяин указывает на те части туши, которые он желает получить, и горцы с видимым удовольствием разрубают тушу. Хозяин берет на помощь двух человек и уносит филейную часть и задние ноги. «Филе! — проносится у меня в голове. — Филе и щи для будущих проезжих! А если хозяин и его домочадцы люди не брезгливые, то они сегодня же вечером отведают этого жаркого. Ведь это — конина».
 Кнут Гамсун с дочерью Эллинор
Кнут Гамсун с дочерью Эллинор
Теперь Корней торопится поскорее увезти на телеге остатки околевшей лошади; но мясники продолжают еще возиться над внутренностями, остались еще лакомые кусочки, и каждый берет себе — кто печенку, кто легкие, кто лопатку. И Корней снова отворачивается и предоставляет им хозяйничать. В конце концов на телеге увезли все-таки довольно много — сильно вздутые кишки.
Вокруг костра сидят семеро человек. Необыкновенно красивое зрелище! Они сварили конину и теперь едят ее, лица и руки у них в жиру, и все рты усердно жуют и в то же время болтают. Увидя меня, они и мне предлагают отведать их кушанья, один человек пальцами протягивает мне кусок мяса, что-то говорит и улыбается; остальные также улыбаются и, чтобы подбодрить меня, ласково кивают мне. Я беру мясо, но качаю головой и говорю: «У меня лихорадка». Это выражение я нашел в моем русском «Переводчике». Но они не понимают по-русски и обсуждают, что я сказал; а когда это выясняется, то все начинают очень оживленно говорить. Насколько я их понял, они объясняют мне, что конина — лучшее средство против лихорадки, и многие протягивают мне куски мяса. Тогда я начинаю есть, и оказывается, что мясо очень вкусное. «Соли?» — спрашиваю я. Один из горцев понимает меня и протягивает мне соль в маленькой тряпочке; но соль грязная, и я закрываю глаза, когда беру ее. Но сами они едят без соли, они едят быстро и жадно, и в глазах у них какое-то безумное выражение. Я думаю про себя: «Они точно пьяные, неужели же их могла опьянить конина?» Я присаживаюсь к ним, чтобы наблюдать за ними и выяснить себе это.
Они начинают пить отвар. Для этого они пользуются ковшом, который пускают в круговую; ковш весь в жиру до самой ручки. Когда они напились отвару и утолили жажду, то снова принялись за мясо, и так продолжалось долго. Я совсем перестаю есть, но их угощение хорошо подействовало на меня и прекратило мою лихорадку; когда они еще предлагают мне, то я благодарю их и отказываюсь.
Они начинают вести себя все страннее и страннее и едят мясо, прибегая к странным приемам. Они прикладывают кусок мяса к щеке и потом тащат его ко рту, как бы лаская его, прежде чем проглотить, и при этом они закрывают глаза и смеются. Некоторые же суют кусок мяса под самый нос и держат его там некоторое время, чтобы насладиться его запахом. Все они лоснились от жира до самых глаз и чувствовали себя прекрасно, несмотря на то, что чужестранец сидел тут же и смотрел на них. Они также катались по земле, испуская звуки, и не обращали ни на что никакого внимания...
* * *
Этот край совсем особенный, он не похож на другие страны, которые я раньше видел, и мною снова овладевает желание поселиться здесь на всю жизнь. Мы спустились уже так низко, что начинаются виноградники, а в лесу попадается орешник; и месяц, и солнце светят, как бы соперничая друг с другом. Это великолепие подавляет, и если бы здесь жить, то можно было бы каждый день бить себя в грудь от восторга. Народ здесь выдержал борьбу, которая грозила ему полным уничтожением, но он перенес все, он здоровый и сильный, он процветает и теперь в общей сложности составляет народонаселение в десять миллионов. Конечно, кавказцы не знают повышения и падения курса на нью-йоркской бирже, их жизнь не представляет собой безумной скачки, они имеют время жить, они могут питаться, снимая плоды с деревьев, и, когда надо, зарезать барана. Но разве европейцы и янки не выше их, как люди? Бог знает. Этот вопрос такой сомнительный, что один только Бог мог бы ответить на него. Величие создается благодаря тому, что вокруг него всё мелко, что век, несмотря ни на что, ничтожен. Я вспоминаю великие имена только в области моей специальности и их бесчисленное множество в длинном ряду гениев пролетариата. Я с радостью променял бы два десятка из них на одного коня из Маренго. Ценности не имеют постоянной цены: театральный ореол в другом месте соответствует блестящему поясу здесь; время уничтожает и то и другое, оно разменивает их на другие ценности. Кавказ, Кавказ! Недаром величайшие гиганты поэзии, известные всему миру великие русские были здесь и черпали из твоих источников...
* * *
Во всех лавках царит порядочная грязь; в лавках, где продают ковры, самые драгоценные ковры валяются на полу, в дверях, на крыльце и чуть ли не на улице вплоть до другого дома, А между тем это драгоценные персидские и кавказские ковры. И люди и собаки топчут их и до того пачкают, что на них больно смотреть.
* * *
Торговцы-армяне представляют здесь исключение: они предлагают свое оружие и нагло обманывают своих покупателей, как везде на свете. Еврей может обмануть десять греков, но армянин обманывает и греков и евреев — так нам говорили на Востоке. Однако армянам принадлежит и гора Арарат, и верховье четырех рек, где был расположен рай. А кроме того, ведь они христиане, а потому они значительно болтливее магометан. Там, где они добивались экономического господства, они проявляли иногда свою заносчивость тем, что не отвечали на приветствия бедного мусульманина. Конечно, в свою очередь мусульманин и не думал обижаться на это, ничто не может нарушить его покоя, исключая, впрочем, тех случаев, когда неверный оскорбляет его религиозные понятия, оскверняет его святыню или когда соперник приближается к его женщине. Тогда он издал бы крик, как самец-верблюд, и вышел бы из себя. Только в таких случаях. Если у него есть чем жить и судьба не наказала его болезнью, то он доволен и благодарен, а если он терпит нужду и недостаток, то он и это переносит с достоинством. Он не жалуется на свою судьбу в газетах. Ведь ничто не может изменить волю Аллаха, и он покоряется ей. Восточные страны — это родина фатализма, этой древней и испытанной философии с ее простой и абсолютной системой. А если в других странах другие народы исповедуют другие системы, то все-таки многие отдельные личности снова возвращаются к фатализму. И они снова стоят перед его непреложностью. Он такой простой и испытанный, это — железо...