Система в сердце: почему забытый критик Мерзляков лучше прославленного Белинского
О любимце студентов, горьком пьянице — и об одной книге, которой пока еще нет
I. О локализации культурных дыр
Сенека Младший писал: «Если мудрец должен гневаться на прегрешения, то он будет гневаться очень часто и тем сильнее, чем больше проступок; а это значит, что мудрец будет уже не просто разгневанным, но гневливым. Если же мы верим, что в душе мудреца нет места ни для сильного, ни для слишком частого гнева, то не лучше ли нам совсем освободить его от этого чувства?» В культурной истории России столько дыр, что, если бы мы стали переживать по их поводу, а тем более сердиться на предшественников за то, что они эти дыры не залатали, наша жизнь представляла бы собой одну незаживающую рану. Потому не будем гневаться, не будем переживать — скорее будем радоваться тому, что сделано, и в особенности тому, что сделано прочно (есть и первое, и, хотя не так много, второе).
Однако же не мешает иметь и некоторое представление о локализации дыр в нашей культурной истории. Об одной из таковых и пойдет у нас речь. А дыра не маленькая — мы имеем дело как-никак с крупнейшим литературным критиком России первой четверти XIX века. Это нас к чему-то да обязывает, если, конечно, мы не презираем отечество до такой степени, что отказываем в ценности его культурной истории вообще, а только для этой позиции «лучший» не значит «хороший».
Алексей Федорович Мерзляков, которому по праву принадлежит этот титул, не является фигурой совершенно забытой; но из трех его ипостасей данная (на наш взгляд, наиболее интересная) привлекала меньше всего внимания. Известен Мерзляков-поэт: в предисловии к его сборнику, вышедшему в Москве в 1867 году, Михаил Лонгинов писал: «мы исполняем священный долг относительно памяти даровитого поэта, ученого и красноречивого профессора»; он предлагал «собрать и напечатать все его сочинения, рассеянные по разным изданиям» (а собрать свои критические работы в нескольких томах планировал еще сам Мерзляков); в советскую эпоху подготовкой издания его стихов для большой серии «Библиотеки поэта» занимался Юрий Лотман (1958 г.); как поэт Мерзляков известен и доступен больше, может быть, чем он заслуживает (вряд ли что-то из его стихотворного наследия живо до сих пор, в том числе и знаменитая в свое время песня «Среди долины ровныя, на гладкой высоте»). Самая крупная подборка его прозы в первом томе сборника «Русские эстетические трактаты первой трети XIX века» вполне представительна — примерно 120 страниц; но прежде всего это теоретическая проза, а собственно критика вошла туда в значительно меньшем объеме.
II. О жизни и преподавательской деятельности Мерзлякова
Наметим его биографию самыми основными чертами. Родившийся 17 марта 1778 года в небогатой купеческой семье и получивший начальное образование в пермском народном училище мальчик обратил на себя внимание талантливым стихотворением, по личному распоряжению императрицы Екатерины II был принят в гимназию Московского университета, потом стал студентом и окончил университет в 1799 году.
На рубеже веков он входит в триумвират, в котором кроме него состояли два видных поэта — Андрей Иванович Тургенев и Василий Андреевич Жуковский. Этот триумвират был ядром Дружеского литературного общества, существовавшего при Вольном благородном пансионе Московского университета; Дружеское общество — отдельная страница, мы же остановимся на этих троих. Здесь тоже — одна из важных культурных развилок. О том, что станет с Мерзляковым, мы еще напишем. Жуковскому было суждено превратиться в очень крупного поэта. Андрей Иванович в 1803-м умер на двадцать втором году жизни.
Тургеневская «Элегия» стала в свое время не менее знаменитым стихотворением, чем переведенное Жуковским «Сельское кладбище» Грея:
Угрюмой Осени мертвящая рука
Уныние и мрак повсюду разливает;
Холодный, бурный ветр поля опустошает,
И грозно пенится ревущая река...
С технической точки зрения это стихотворение отличается значительной небрежностью в державинском вкусе, с такими рифмами, как смерть / умереть, разлученный / блаженных, обольщенна / осенних; по-видимому, здесь мы имеем дело с еще одной неосуществленной возможностью: убедительные образцы поэзии с державинской шепелявой рифмой могли бы победить херасковскую техническую строгость и задать модель дальнейшего развития; но этого не случилось, и в русской поэзии на столетие восторжествовал Херасков.
Что же касается дружеского союза, то, по-видимому, Андрей Тургенев был его центральным звеном: отношения между Жуковским и Мерзляковым были в целом дружескими (возможно, скорее приятельскими), но далеко не гладкими. В 1818 году состоялось необычно резкое по форме и тональности выступление — чтение мерзляковского «Письма из Сибири» в присутствии самого Жуковского; текст был представлен как анонимный. Осуждению подверглись «две новизны, а именно: Гекзаметры и Баллады». Романтической программе, предполагавшей новое содержание в сочетании с по-новому прочитанной античностью, противопоставлялась литературная традиция, защитником которой чувствовал себя Мерзляков: с опорой на античность, очищенную, пропущенную сквозь призму классицизма, которой новейшая филологическая школа противопоставляла «подлинную» античность, что, в частности, отразилось в употреблении гекзаметра для перевода Гомера.
Михаил Погодин (в автобиографии, вошедшей в юбилейный «Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета 1855 года») припоминает одну из лекций:
«„Вышла, господа, новая поэма, молодого нынешнего поэта, Лорда Байрона, Шильонский узник, переведенная по-русски Жуковским [это произошло в 1822 г. — А. Л.]. Мы займемся ее разбором в следующий раз”. Весь Университет взволновался и, считая минуты, ожидал этого следующего раза. Лишь только кончилась лекция, предшествовавшая Мерзлякову, в 5 часов, и вышел профессор из аудитории, как студенты со всех сторон бросились туда, точно на приступ, спеша занять места. Медики, математики, о словесниках и говорить нечего, юристы, кандидаты, жившие в Университете, все явились в аудиторию, которая наполнилась в минуту народом сверху донизу, по окошкам, даже под верхними лавками амфитеатра. Мерзляков должен был продираться через толпу. Какое молчание воцарилось, когда он сел наконец на кафедру! Все дрожали, сердце билось, слух был напряжен, и он начал:
„Что это за лице рассказывает о своем положении! Каких слушателей у него должны мы себе представить? Почему предполагает он их участие? Что за странность рассказывать без всякого вступления или предупреждения? Что за выражение: тюрьма разрушила? Как она разрушила, если он еще может говорить: разрушить можно здание, но человек разрушен быть не может. Вот эти модные поэты! Не спрашивайте у них логики! Они пренебрегают языком”».
Кое с чем не поспоришь: стих «Тюрьма разрушила меня» к шедеврам Жуковского, очевидно, не относится.
Вернемся к биографии. В 1804 году, когда проводилась реформа университета, Мерзляков стал магистром. Он занял кафедру российского красноречия и поэзии. Это был самый значимый боевой пост в империи — с точки зрения литературной критики. Попечитель Михаил Муравьев высоко ценит его таланты, покровительствует молодому ученому и поэту и заботится, в частности, об отправке его в Берлинский, Геттингенский и Лейпцигский университеты «для усовершенствования в древней литературе». Можно только пожалеть, что попечителю не удалось добиться исполнения своих планов: возможно, жизнь Мерзлякова сложилась бы иначе, чужая жизнь наложила бы отпечаток на его характер и привычки и впоследствии, когда его обездвиживали винные пары, не пришлось бы говорить студентам, что лекции не будет по болезни профессора.
В 1805 году следует вызов в Петербург; как пишет Лотман, было намерение пригласить его преподавателем к Великим князьям, но он «не показался» в этом качестве. Не станем перечислять титулы и должности; отметим лишь активное участие в Обществе любителей российской словесности при Московском университете. По-видимому, молодому ученому повредила простонародная закваска, от которой он не смог избавиться. Воспоминания характеризуют его как человека, мало расположенного к светской жизни, да и к педантизму (в педантизме напрасно упрекал его Константин Батюшков).
Дмитрий Свербеев вспоминал:
«К своим импровизированным лекциям он, кажется, никогда не готовился; сколько раз случалось мне, почему-то его любимцу, прерывать его крепкий послеобеденный сон за полчаса до лекции; тогда второпях начинал он пить из огромной чашки ром с чаем и предлагал мне вместе с ним пить чай с ромом. „Дай мне книгу взять на лекцию“, — приказывал он мне, указывая на полки. „Какую?” — „Какую хочешь”. И вот, бывало, возьмешь любую, какая попадется под руку, и мы оба вместе, он, восторженный от рома, я навеселе от чая, грядем в университет. И что же? Развертывается книга, и начинается превосходное изложение. Какого бы автора я ему ни сунул, автор этот втесняется во всякую рамку последовательного его преподавания; и басня Крылова, если она подвернется, не мешала Мерзлякову говорить о лиризме, когда в порядке, им задуманном, нужно было говорить о лириках».
Пристрастие к горячительным напиткам подтверждается не одним свидетельством. Оно, несомненно, стало одной из причин ранней смерти Мерзлякова летом 1830 года, в возрасте пятидесяти двух лет.
В позднюю эпоху Алексею Федоровичу случилось пересечься с еще одной восходящей надеждой русской поэзии — Михаилом Лермонтовым. Товарищ Лермонтова по Благородному пансиону Андрей Миклашевский вспоминал:
«Лучшие профессора того времени преподавали у нас в пансионе, и я еще живо помню, как на лекциях русской словесности заслуженный профессор Мерзляков принес к нам в класс только что вышедшее стихотворение Пушкина:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
и проч. — и как он, древний классик, разбирая это стихотворение, критиковал его, находя все уподобления невозможными, неестественными, и как все это бесило тогда Лермонтова. Я не помню, конечно, какое именно стихотворение представил Лермонтов Мерзлякову; но чрез несколько дней, возвращая все наши сочинения на заданные им темы, он <...> хотя и похвалил их, но прибавил только: „молодо, зелено”, какой, впрочем, аттестации почти все сочинения наши удостоивались».
Мерзляков давал Лермонтову и частные уроки. Бабушка поэта уже после служебной катастрофы внука жаловалась: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе; вот до чего он довел его».
Застал его и Белинский:
«Он преподавал теорию изящного, и между тем эта теория оставалась для него неразгаданною загадкою во все продолжение его жизни; он считался у нас оракулом критики и не знал, на чем основывается критика... И этот человек, который был знаком с немецким языком и литературою, этот человек, с душою поэтическою, с чувством глубоким — писал торжественные оды, перевел Тасса, говорил с кафедры, что „только чудотворный гений немцев любит выставлять на сцене виселицы”, находил гений в Сумарокове и был увлечен, очарован поддельною и нарумяненною поэзиею французов в то время как читал Гете и Шиллера!.. Он рожден был практиком поэзии, а судьба сделала его теоретиком...»
Впрочем, это не единственный случай, когда Белинскому довелось противоречить истине по всем пунктам.
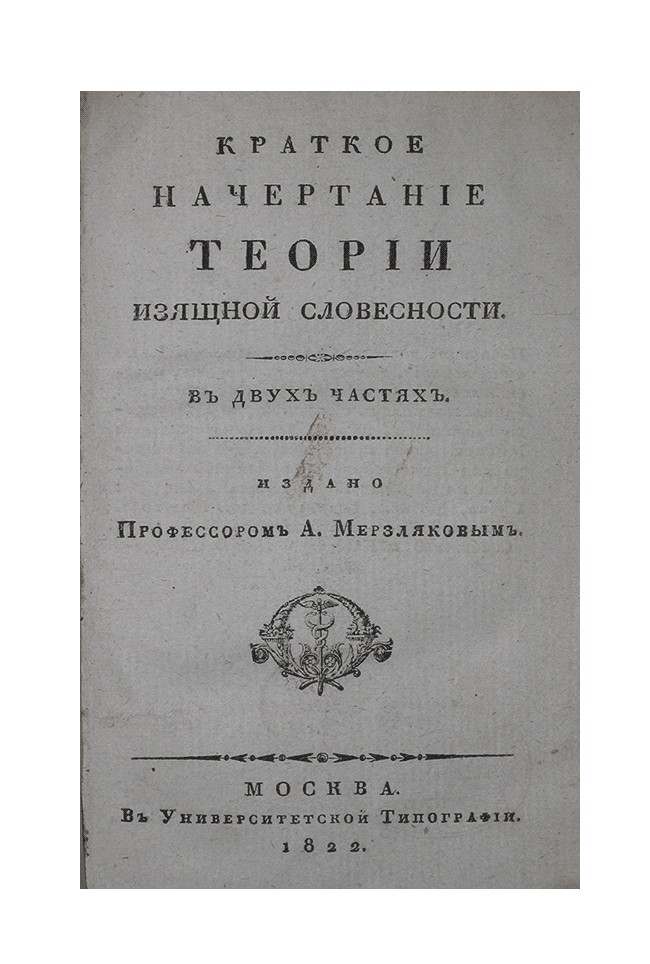 III. О публичных чтениях, античности и теории
III. О публичных чтениях, античности и теории
Публичные чтения о словесности Мерзляков начал в 1812 году; вторжение неприятеля в Москву заставило их прервать. В течение года — 1815-го — продолжалось издание собственного мерзляковского журнала «Амфион», где в виде цикла писем к другу был опубликован, в частности, его самый крупный — монументальный, в семь печатных листов — разбор, а именно — разбор «Россиады». Публичные чтения возобновились, и не без успеха; но Филипп Дзядко, видный исследователь творчества Мерзлякова, именно к 1815 году относит начавшийся процесс падения его авторитета. Многие чтения потом были опубликованы как критические статьи.
Цикл о Хераскове рассматривался в двух перспективах. Кроме Мерзлякова, на Хераскова в том году ополчился «недоучившийся студент» Павел Строев. Консерваторы увидели у Мерзлякова уважительный, объективный разбор, ответ на задиристые выходки молодого врага; прогрессисты — нападение. Не любивший Мерзлякова лицеист Пушкин отмежевался и от поэта, и от критика. Знаменитый архаист и «славенофил» Александр Шишков, похоже, был выведен из себя: тонкий знаток итальянской литературы, он посвятил громадную статью (целый номер «Духа журналов», кн. 46, в 1817 г.) разбору (весьма жесткому и дельному) мерзляковского перевода «Освобожденного Иерусалима» Тассо и заключил так:
«Трудно поверить, чтоб тот, кто в переводе своем показал себя толь мало чувствующим красоты подлинника, мог критически разобрать и справедливо оценить нам лучших наших стихотворцев, каковы были Ломоносов, Сумароков и Херасков. Без сомнения в них есть недостатки, как и во всех: но есть и достоинства, какие не во всяком другом бывают».
Еще раз отметим: античность в мерзляковской программе нужна была не подлинная, а прошедшая через очистительное горнило классицизма. Виктор Ярхо не без иронии отмечает по поводу перевода отрывка из Софокла:
«Если довод Креонта против выдачи Антигоны замуж за Гемона („Для посева есть и другие пашни”), до сих пор шокирующий читателей своей откровенностью, был вовсе неприемлем для аудитории Мерзлякова, то все же его перевод („Рассудок над страстьми быть должен властелин. Ему невеста есть”) нельзя назвать даже пересказом оригинала».
Иногда Мерзлякову изменяла память:
«Смотрите, кто, например, отличен в Илиаде? Не сей ли Гектор доблестный, всегда себе равный... Не сия ли Ифигения, увлекаемая к жертвеннику честолюбивым отцом, разделяемым между обязанностию царя и любовию родительскою? — Не сия ли Поликсена, под самым кинжалом изумляющая величием души своей?»
(О начале и духе древней трагической поэзии и о характерах трех греческих трагиков, в кн.: «Подражания и переводы...» М., 1826, ч. 1)
Мы знаем, что трагедия — крохи со стола Гомера, но ученый, пишущий о жертвоприношении Ифигении и Поликсены в «Илиаде», рискует своей научной репутацией. В разборе «Россиады», сравнивая описание предзнаменований у Хераскова с «Фарсалией», Мерзляков пишет: «Этого описания нельзя конечно сравнить с подобным же Лукана (явления перед смертью Цезаря)»; может быть, он вспомнил о финале первой книги «Георгик» Вергилия? У Лукана, доведшего поэму о гражданской войне до Александрии, никакого описания смерти Цезаря и ее предзнаменований нет. Юрий Лотман совершенно напрасно писал в предисловии к стихотворному сборнику, что Мерзляков требовал «этнографической и исторической точности» и в этом «расходился с классицизмом». Если у него и было расхождение с классицизмом, то заключалось оно в том, что разночинский быт сказался и на творчестве.
И еще в одном. Для классициста Мерзляков был мало склонен к системотворчеству. «Вот где система!» — говорил он, указывая на сердце. «Произведения изящных искусств, как предмет чувствования и вкуса, не подвержены строгим правилам и не могут, кажется, иметь постоянной системы, или науки изящного», — писал он, и выход из тупика видел в «критике вкуса». Дмитрий Веневитинов, молодой и рано ушедший гений с современными философскими претензиями, усматривал у него «недостаток теории» — как и Степан Шевырев, выученик иной филологической школы, видел у него, скажем так, недостаток истории.
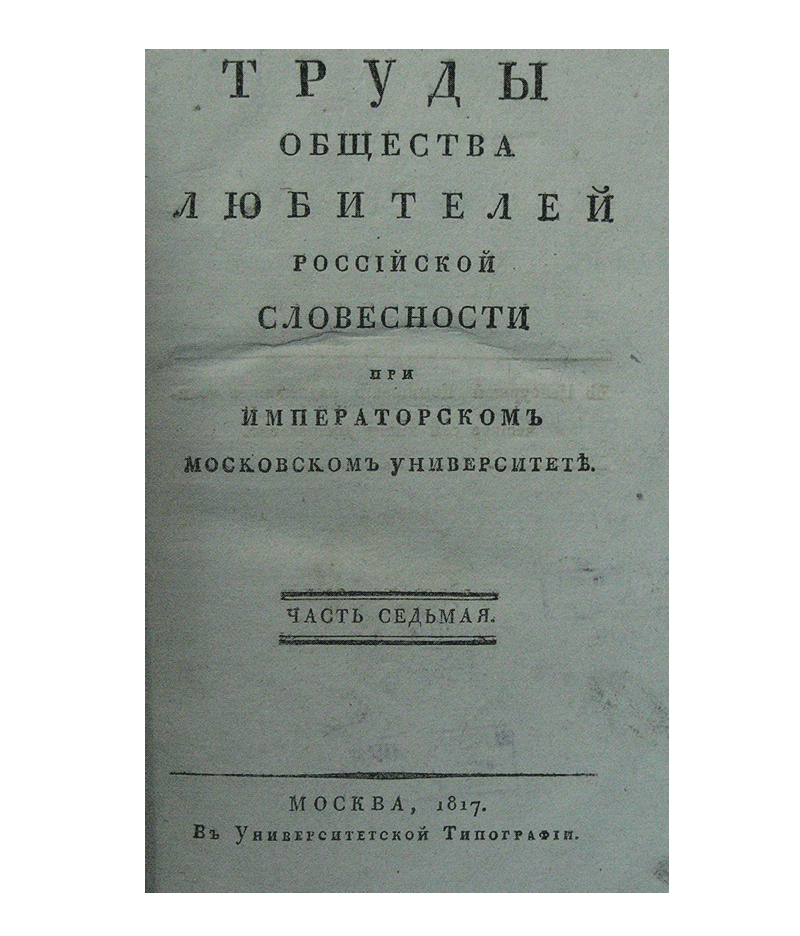 IV. О критике
IV. О критике
Чтобы дать представление о критическом таланте Мерзлякова, взглянем на его статью «Державин», опубликованную в «Трудах Общества любителей российской словесности при Императорском Московском университете» (ч. XVIII, 1820). Мерзляков очень бегло излагает биографические сведения, сопоставляет поэта с Ломоносовым, отмечая заслугу: Державин придал оде горацианский вид, «то есть: исторгнул ее из тесных пределов учебно-систематических сочинений, наполняемых общими риторическими местами и располагаемых единственно по обыкновенным формам». Горацианский характер определяется так (и, нужно сказать, не совсем точно): «Державин даровал Оде истинное движение чувства восторженного и воображения воспламененного, преобратил ее в творение назидательное для Царей и народов, в песнопение приятное и занимательное».
Интегральная характеристика такова:
«Многие может быть, думают, что небрежность в стихотворениях нашего Песнопевца, каковы напр. невыдержание метафоры, странные перестановки, излишняя вольность, и даже очевидные погрешности в оборотах и выражениях, принужденность движений, неправильность рифм и меры, и все подобные недостатки происходили от того, что он скоро писал. — Совсем напротив. — Державин писал чрезвычайно трудно, и каждое сочинение стоило ему многого тщания в обработании слога. Это засвидетельствуют все, имевшие честь быть к нему близкими. — От чего же, спросят, столь по-видимому свободные и даже небрежные стихи проистекали из такого трудного пера? — От того, без сомнения, что Державин, так сказать, утопающий в море всеобъемлющего воображения, не всегда был в состоянии находить собственные слова и краски для своих мыслей, составлял, выдумывал, соединял, сокращал, силясь беспрерывно выразить предмет свой так, как он ему представился, или как ему хотелось его представить, и в то же время развлекался новыми картинами разительными. Вот назидательный урок для молодых писателей, слишком много надеющихся на свои дарования и отвергающих все предварительные пособия науки и искусства. — Державин был обильнее в умственных своих способностях, нежели в средствах языка, — и должен был сам изобретать и вводить их как новые, неупотребительные! — Какой труд! какие оковы для пылкого и свободного гения! забудем некоторые погрешности и отдадим ему должную дань удивления на стези побед его! — Главные отличия слога Державина суть, как я сказал: 1) Живопись; но она состоит более в цвете и яркости красок, нежели в достоинстве рисунка, которому весьма часто недостает гармонии и симметрии. 2) Разнообразие. 3) Благородство, сила, высокость мыслей и чувствований. 4) Движения быстрые, изменяющиеся, которые весьма редко встречаются в ровном и однообразном до излишества Ломоносове. В сем отношении даже самой Сумароков живее Певца Холмогорского. 5) Краткость и выразительность в мыслях, а иногда в выборе слов и оборотов заключающаяся: это в нем встречается часто, как будто невзначай; наконец 6) — Гармония и описательная Поэзия. — Из сих качеств сила мыслей, живопись и чрезвычайное искусство его рисовать для слуха суть главнейшие или отличительные. — Но что составляет истинную характеристику Державина, то заключается действительно в его собственном духе, которого не мог присвоить себе ни один из самых страстных подражателей его слога. — Дух сей составляют любовь к свободе, твердость решительная, благородное самочувствие и непринужденная, но всегда затейливая веселость».
В дальнейшем он применит к Державину характеристику Овидия, данную Квинтилианом: «слишком влюбленный в свое дарование». Это сказалось на неровности тона и редкости определенного порядка по отношению к целому. Воображение больше влекло Державина, нежели чувство. Ломоносов обладал своим предметом; Державин был обладаем и увлечен им. Самое драгоценное сокровище — философские оды.
«Сила, благородство, чувства возвышенные, ход: все отличает его здесь пред всеми нашими стихотворцами; самой слог в философских Одах более правилен, ровен и повсюду выдержан. — Здесь Державин не подражатель Горация, а соперник его сильный и блистательный. Если бы от него не осталось нам ничего более, кроме Од: Изображения Фелицы, Ключа, Видения Мурзы, на смерть Мещерского, Оды: Вельможа, и к Первому Соседу: уже этого одного достаточно было бы, чтоб сделать его бессмертным».
Мы видим, что у Мерзлякова есть богатая и содержательная категориальная сетка, которую он набрасывает на творчество поэта. Его критика ярче и интереснее, чем, скажем, унылая жвачка Виссариона Белинского, ищущего популярности среди молодежи бесконечными нигилистическими выходками против старины и превращающего изящную словесность в социологию дурного вкуса.
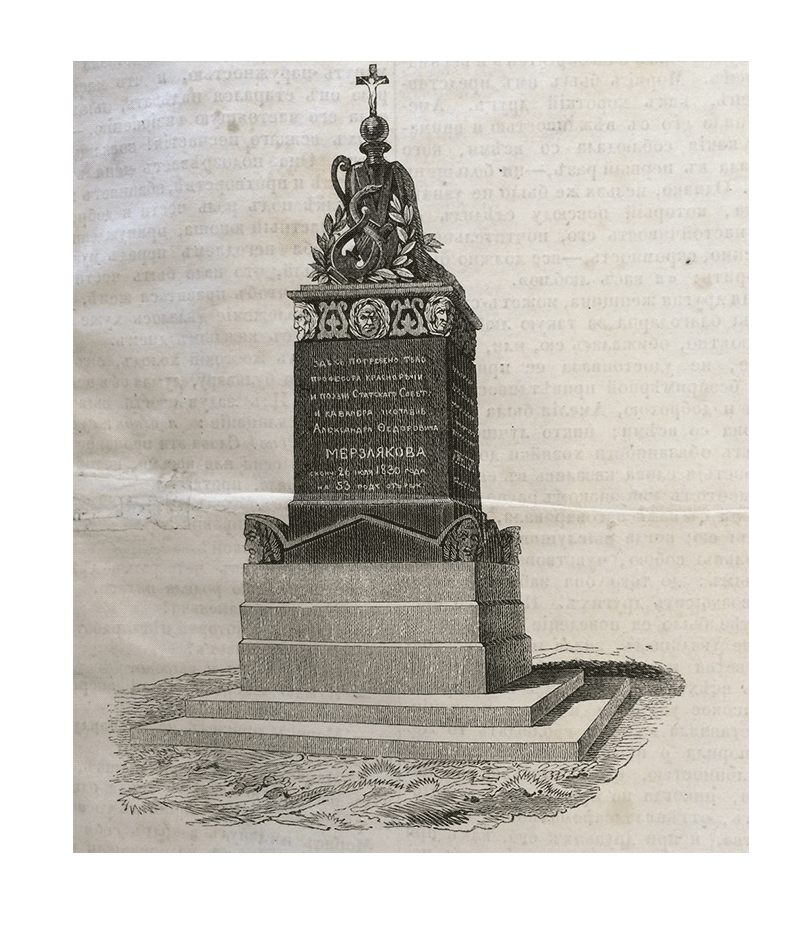 V. Об итогах
V. Об итогах
В прогрессивном «Московском телеграфе» был опубликован краткий некролог, из которого видно, что еще не старый критик молодому поколению был интересен только там, где оно усматривало в его действиях войну с прежней русской литературой:
«В свое время Мерзляков оказывал большую деятельность: читал курсы Словесности, издавал Журнал, переводил Освобожденный Иерусалим, Одиссею, Греческих трагиков, Горация, Виргилия, Дезульер; тогда так делали, и труды Мерзлякова были весьма важны. Время переходчиво: я еще помню, как испугались, когда Мерзляков осмелился кое-что заметить у Озерова, сказать, что Державин не пара Ломоносову, и что Россияда Хераскова — плоха!»
Как поэт и как личность Мерзляков оказался совершенно не на высоте своей программы; ему следовало по крайней мере меньше пить и дольше жить. Но то движение, которому Мерзляков противостоял, обладало исключительным могуществом, и силы в любом случае оказались бы слишком неравными. Однако же ни филология, ни публика не должны руководствоваться принципом «горе побежденным!» В любом случае историческая и литературная значимость его критических выступлений такова, что стоит попытаться собрать их вместе, под одной обложкой, и выпустить в свет в достойном виде. Он, право же, этого заслужил.