«Шёнберг остался крайне недоволен „Доктором Фаустусом“ Томаса Манна»
Музыковед Наталья Власова о своих книгах и героях
 «Музыку тех композиторов, о которых писала я, трудно назвать простой»
«Музыку тех композиторов, о которых писала я, трудно назвать простой»
Мой путь в музыкальную науку пролегал через исполнительство — я окончила училище как пианистка, а в музыковеды переквалифицировалась уже в вузе. Впрочем, пианистический опыт мне очень помог. Исполнительская составляющая очень важна в нашем деле: совершенно по-другому понимаешь музыку, когда владеешь ею руками. В консерватории научную деятельность я начала с самой новой музыки, которая существовала на тот момент. Моя дипломная работа и диссертация были посвящены творчеству немецких композиторов 1970–1980-х годов. Увлечение самой новой музыкой возникло благодаря замечательному педагогу, у которого я имела счастье учиться, — Юрию Николаевичу Холопову. Он пробудил в нас интерес к этой музыке, к тому, чтобы найти к ней подход. Диплом и диссертацию я писала у его сестры, выдающегося ученого Валентины Николаевны Холоповой. Мои занятия были тогда особенно актуальны, поскольку как раз в те годы проводился большой фестиваль музыки ФРГ в СССР. И, как я теперь понимаю, такую тему мой научный руководитель предложила мне в связи с этим фестивалем. А потом получилось так, что я в своих изысканиях пошла хронологически в обратном направлении: Шёнберг и Цемлинский — это первая половина XX века.
Но первые мои работы были посвящены поколению немецких композиторов, родившемуся после Второй мировой войны. Они в 1970-е годы только начали сочинять, но их общим желанием было порвать с практикой авангарда и продолжить позднеромантическую линию, «непосредственно» подхватить традицию, от которой послевоенный авангард решительно открестился. Это течение нередко называли тогда «новой простотой». Крупнейшим композитором того поколения является Вольфганг Рим. Идеалом для него и его ровесников стала музыка в том утопическом состоянии абсолютной свободы, какой она была в 1910-е годы, когда, одновременно с абстрактным искусством в живописи, в музыке тоже возник своего рода «абстракционизм» — так называемая свободная атональность.
Моя кандидатская диссертация стала продолжением диплома, она называлась «Пересечения с музыкальной традицией в творчестве западногерманских композиторов 1970–1980-х годов». Наряду с «новой простотой» в ней рассматривалось и творчество композиторов старшего поколения: Маурисио Кагеля, Дьёрдя Лигети, Дитера Шнебеля. Все они прошли через опыт авангарда, но каждый из них в 1970–1980-е годы по-своему вернулся к музыке прошлого. Анализу и сравнению того, как это и происходило у них и у молодого тогда поколения, Рима и его ровесников, и была посвящена моя работа.
Само понятие «новая простота» не выдерживает критики, от него давно отказались, это было журналистское определение, не вполне ясное по содержанию. Туда и минималисты попадали, и композиторы-неоромантики, это такое определение, которым, в общем-то, нельзя оперировать. Музыку тех композиторов, о которых писала я, трудно назвать простой.
«Шёнбергом было страшно начинать заниматься»
Естественно, занятия современной немецкой музыкой в чем-то предопределили интерес к австро-немецкой музыкальной культуре вообще. Интерес к Шёнбергу первоначально возник, поскольку сам Рим неоднократно подчеркивал, что его идеалом является атональное творчество Шёнберга. Захотелось разобраться, узнать эту музыку поближе. К тому же я осознала, что на тот момент у нас почти не было никаких работ о Шёнберге, его труды не переводились на русский. И я подумала: почему бы мне не заняться этим, тем более что у меня есть для этого объективные возможности? Я знаю немецкий и английский языки, которые необходимы для того, чтобы изучать эту тему, — поскольку жизнь Шёнберга разделена на две половины: его деятельность в лучшие годы связана с Австро-Венгрией и Германией, а с приходом к власти фашистов он вынужден был эмигрировать в США и начинать всё почти с чистого листа. Так я и пришла к Шёнбергу и к австро-немецкой музыкальной культуре начала ХХ века.
Шёнбергом было страшно начинать заниматься. Это колоссальная фигура и огромный массив материала, сложного материала, который надо было освоить. Понадобилось пять-шесть лет интенсивных занятий. Начала я с его теоретических работ. Мы с моей коллегой Ольгой Владимировной Лосевой подготовили первое русское собрание его статей, куда полностью вошли его книга «Стиль и мысль» (в России она больше известна как «Стиль и идея» — калька с английского) и статьи разных лет. Получился весьма представительный том. Мы отобрали, перевели, откомментировали эти тексты, написали вступительную статью. Это было очень важно для того, чтобы узнать героя, что называется, «из первых рук». Параллельно с этим я начала заниматься его творчеством. Получилось так, что две книги, перевод и моя монография, вышли одна за другой. Когда начинаешь какую-то новую тему, всегда страшно, думаешь: «Боже мой, как это вообще возможно!» Но тем не менее, когда втягиваешься, понимаешь, что в принципе нет ничего невозможного.
«У Шёнберга был довольно сложный духовный путь»
Шёнберг открыл какие-то совершенно новые миры в музыке, которых раньше никогда не существовало. Это относится и к выразительности, совершенно небывалой по интенсивности, и к визионерским открытиям и масштабным замыслам, которые можно сравнить прежде всего со скрябинскими. Он устремлялся в новые сферы, причем как внутри человека, так и вне его. Именно это побудило композитора к поискам нового музыкального языка — как средства донести новое содержание. Таковы его песни на стихи Стефана Георге, Второй струнный квартет, монодрама «Ожидание», оратория «Лестница Иакова».
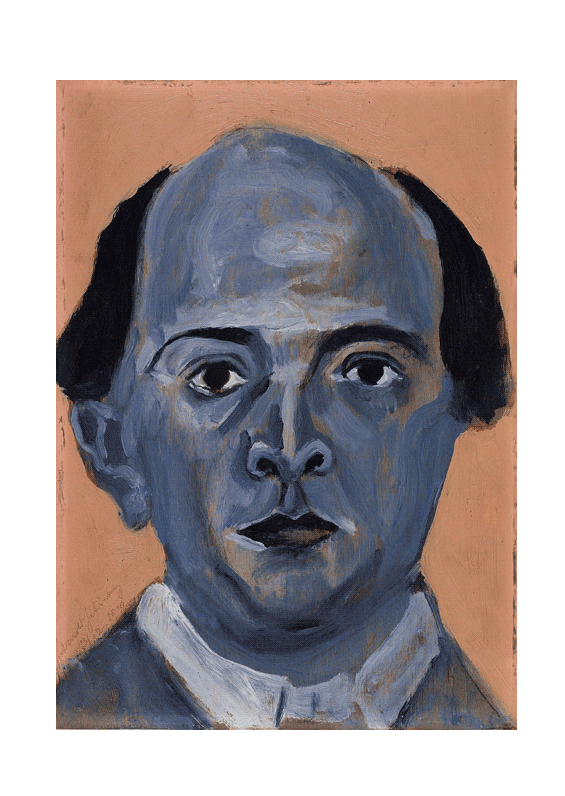
Арнольд Шенберг. Автопортрет в синем. 1911 год
Фото: schoenberg.at
У Шёнберга был довольно сложный духовный путь: из иудаизма он перешел в христианство, потом снова вернулся в иудаизм. При этом было еще и увлечение мистикой, и вера в нумерологию, что вообще отличало нововенцев (особенно Альбана Берга) и, возможно, восходило как раз к Шёнбергу. Роковым числом для себя он считал число тринадцать, что отчасти и оправдалось, поскольку его жизнь началась и окончилась именно тринадцатого числа.
В 1910-е годы у Шёнберга были очень сильны богоискательские настроения, в частности теософские. Концепция его оратории «Лестница Иакова» тесно связана с идеями Рудольфа Штейнера и учением шведского мистика Эмануэля Сведенборга. Библейская лестница Иакова понимается как своего рода последовательность стадий духовного совершенствования. Все персонажи (Недовольные, Сомневающиеся, Ликующие, Равнодушные, Неверующие, Нетерпеливые и др.) находятся на разных ступенях этого процесса. Кто-то обречен вернуться на землю, а кому-то уже открыт путь наверх. Фактически здесь выражено представление о том, что душа проживает множество жизней, — идея реинкарнации. В этом сложном духовном конгломерате одним из источников для Шёнберга послужил и Оноре де Бальзак, как ни странно это может показаться. Мы Бальзака знаем совсем в другом качестве, а у него есть мистический роман «Серафита», основанный на некоторых идеях Сведенборга. Этот роман только в 1990-е годы был переведен на русский язык. В нем описываются небеса, которые открылись героям, где свет и цвет становятся музыкой, где нет верха и низа, где всё находится в каком-то фантастическом единстве. Это Шёнбергу как музыканту оказалось очень близко. Более того, когда он потом развивал теорию двенадцатитоновой музыки, у него всплыло это представление о небесах Бальзака и Сведенборга, и двенадцатитоновый ряд (серию), который тоже может развиваться в любых направлениях и при этом оставаться равным самому себе, он воспринимал как нечто родственное такому мистическому представлению.
«Шёнберг впервые пришел к тому, что композитор создает собственную систему сочинения»
Музыкальное сообщество в массе своей воспринимало Шёнберга в штыки, он кругом встречал непонимание. Уже пятидесятилетним он с негодованием покинул Вену ради Берлина, где ему наконец предложили профессуру. А в Вене он так и не нашел себе места в музыкальном истеблишменте: давал частные уроки музыки, оставаясь, в общем-то, маргиналом. При этом Шёнберг был человеком очень деятельным и харизматичным. Он всегда был окружен учениками — соратниками в борьбе за новое искусство, которую он вел. Это сообщество потом получило название «новая (или вторая) венская школа». Ученики Шёнберга боготворили, он был безусловным лидером в своем кругу. После Первой мировой войны при помощи учеников ему даже удалось создать в Вене концертную организацию для продвижения новой музыки разных направлений — «Общество закрытых музыкальных исполнений», — куда допускалось только ограниченное число людей. И хотя оно просуществовало недолго, и для исполнителей, и для слушателей это была образцовая школа исполнения и постижения новой музыки.
Многое изменилось, когда Шёнберг эмигрировал в Соединенные Штаты. Он стал много преподавать, и его новая аудитория очень отличалась от венской. Американские ученики композитора были менее подготовлены, менее рафинированы, чем венские. Это было, так сказать, «массовое производство», а не «штучный товар». В преподавании там стояли совсем другие задачи, и, хотя Шёнберг без энтузиазма воспринял новую ситуацию, тем не менее и в США он успел немало. Но его положение там, конечно, кардинально отличалось от положения в Старом Свете — свой круг он утратил. Тем не менее американские ученики очень много сделали для пропаганды его личности, его учения и творчества. Благодаря своим студентам Шёнберг опубликовал несколько учебников, с их помощью подготовил ту самую книгу «Стиль и мысль». В Америке он выступал с лекциями, радиодокладами, участвовал в дискуссиях, время от времени писал статьи — и многое из того, к чему он как музыкант пришел в Европе, было впервые обнародовано именно в США. В 1970-е годы в Лос-Анджелесе, где он жил в последние годы, силами учеников и энтузиастов его творчества был открыт Институт Арнольда Шёнберга. В 1990-е годы его обширный архив был перемещен в Вену: композитор все-таки вернулся в свой родной город, хоть и после смерти.
Все знают Шёнберга прежде всего как создателя двенадцатитонового метода композиции. Он разработал этот метод в первой половине 1920-х годов и долгое время сам о нем публично не высказывался, опасаясь, что у людей малоодаренных он может превратиться в «кулинарный рецепт» для сочинения музыки. Так что известно об этом методе первоначально стало от его учеников. У Шёнберга ряд — это прежде всего набор характерных мотивов, интервальных «конфигураций», несущих тематическую функцию и обеспечивающих связное, логичное музыкальное развитие в условиях атональности.
Шёнберговский метод был воспринят и кардинально переосмыслен послевоенным авангардом в середине ХХ века, так что от исходных постулатов Шёнберга уже мало что осталось. Но это нормально — идея отделилась от своего создателя и начала собственную жизнь. У авангардистов 1950–1960-х годов, в первую очередь у Штокхаузена, идея ряда приобретает гораздо более абстрактную, виртуальную форму. Принцип ряда (серии) начинает определять не только звуковысотную последовательность, но и такие вещи как ритм, динамика, артикуляция. В сочинении все начинает регулироваться рядами, которые очень сложно между собой взаимодействуют, — и в конечном итоге эта жесткая упорядоченность во всех направлениях перестает восприниматься как таковая. Наиболее дальновидные умы поняли это уже в конце 1950-х годов, и одним из первых критиков тотального сериализма стал Джон Кейдж (который, кстати, в свое время недолго учился у Шёнберга в Америке). Осознание того, что крайности сходятся и предельно организованная музыка начинает звучать как предельно неорганизованная, привело к распространению алеаторики, в которой велика роль случайности, импровизационности и многое отдано на откуп исполнителю. Существует множество разновидностей алеаторики, но у ее истоков стоят Кейдж и Штокхаузен.
Двенадцатитоновая система важна не только сама по себе, но как первый «авторский», специально разработанный композиционный метод. Именно Шёнберг впервые пришел к тому, что композитор создает собственную систему сочинения — что никому прежде в голову прийти не могло, так как в условиях общего для всех тонального языка надобности в этом не возникало. И сама эта мысль Шёнберга означала переворот в понимании музыкальной композиции, который определил всё последующее музыкальное творчество.
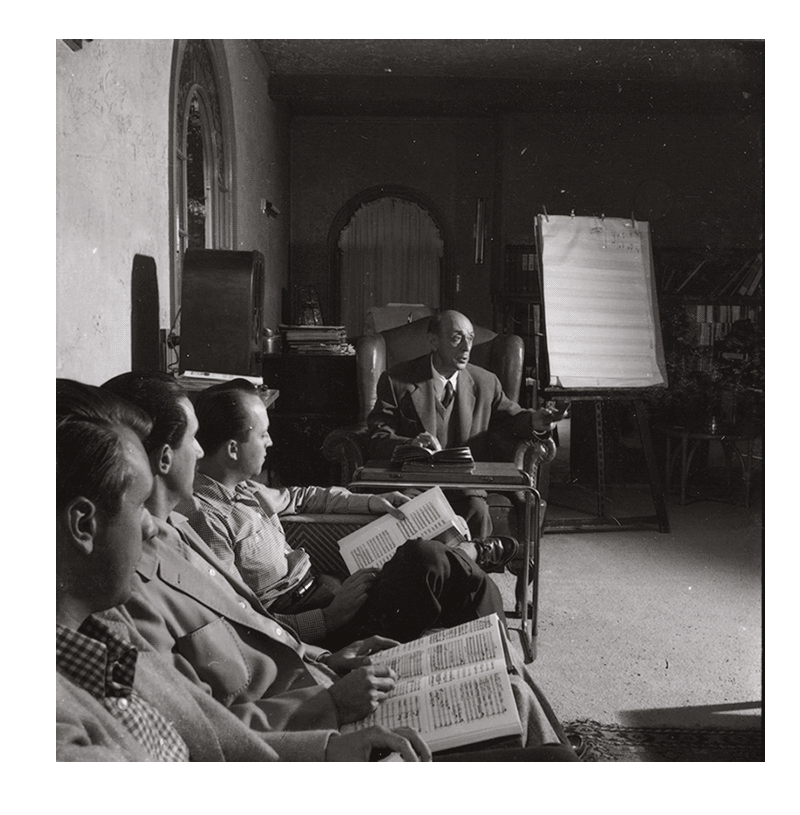
Арнольд Шенберг со студентами в Калифорнийском университете, 1947 год
Фото: primephonic.com
При этом субъективно послевоенное поколение относилось к Шёнбергу весьма критически. Его считали старомодным, устаревшим с его позднеромантической композиторской «генеалогией». Считали, что грамматика языка, который он создал, противоречит у него самому «словарному запасу». Это отношение выразил Пьер Булез в своей статье, опубликованной через полгода после кончины композитора и провокационно озаглавленной «Шёнберг мертв». Да, Шёнберг таков, что в нем сочетаются какие-то, казалось бы, совершенно несовместимые вещи. С одной стороны, он, конечно, художник-революционер и провидец, и именно к нему восходит многое из того, что потом проросло в музыке ХХ века. Такой дар мало кому дан. С другой стороны, парадоксальным образом в своем творчестве Шёнберг — плоть от плоти великой австро-немецкой традиции: Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Брамса. Его можно считать завершителем этой традиции. Многое из того, что существовало уже у его предшественников, Шёнберг довел до предела, до трансформации в новое качество. Но тем не менее он очень глубоко укоренен в музыкальной традиции. Это только современникам казалось, что музыка Шёнберга — какое-то ниспровержение старых богов. По меткому замечанию Ганса Эйслера, который тоже был его учеником, Шёнберг — «настоящий консерватор; он даже совершил революцию, чтобы получить возможность быть реакционером». Парадоксальность этого определения как нельзя лучше отвечает парадоксальности фигуры Шёнберга. Это прежде всего великий музыкант, и время показало, что его творчество оказалось выше многих ограниченных его толкований.
«„Композитор-плагиатор Шёнберг” присвоил себе открытие, которое в действительности сделал писатель»
Обычно художник обрастает легендами после смерти, но с Шёнбергом это произошло еще при жизни. Я имею в виду историю с романом «Доктор Фаустус» Томаса Манна. В нем Манн описывает шёнберговский двенадцатитоновый метод композиции и называет его создателем своего главного героя, композитора Адриана Леверкюна. Консультантом Манна, как известно, был выдающийся музыкальный мыслитель Теодор Адорно, автор «библии» послевоенного авангарда — книги «Философия новой музыки». Это был тоже человек новой венской школы, ученик ученика Шёнберга Альбана Берга. Однако это не помогло. Шёнберг остался крайне недоволен романом, тем, что Манн написал о его методе в связи с музыкой конца великой эпохи, в апокалипсических тонах. Кроме того, он воспринял эту книгу как посягательство на свою интеллектуальную собственность. Шёнберг всегда был человеком очень ревнивым и мнительным (видимо, на его характере сказалась длительная непризнанность) и тогда уже очень немолодым. Он выразил свой протест весьма нетривиально — в виде мистификации. Томас Манн получил от него письмо с «выписками» из воображаемой энциклопедии, в которых говорилось, что «композитор-плагиатор Шёнберг» присвоил себе открытие, которое в действительности сделал писатель. Так Шёнберг хотел показать, как могут воспринять роман потомки. В результате появился комментарий Манна на последней странице романа, где он подчеркивает, что истинным автором метода, о котором говорится в его произведении в связи с вымышленной фигурой Леверкюна, является не кто иной, как Шёнберг. Такова история этого послесловия, которое, если не знать этой истории, может вызвать недоумение.
«Новая музыка ХХ века никогда не станет доступной»
Не так давно в кинотеатрах шел фильм Михаэля Ханеке «Пианистка». Шёнберг противопоставляется там Шуберту и Шуману. Главная героиня говорит своему ученику: «Ваш потолок — это Шёнберг, за Шуберта не беритесь». Это очень характерная реплика для того, чтобы показать, как нередко воспринимают Шёнберга до сих пор. Имеется в виду, что когда ты берешь фальшивые ноты, скажем, у Шумана или Шуберта, Моцарта или Бетховена, то это сразу слышно. Когда же ты берешь не ту ноту в сочинении Шёнберга, то слушатели, по крайней мере большинство из них, этого не заметят, потому что в двенадцатитоновой звуковой системе возможны любые звуки и сочетания. Когда я слышу такое, то вспоминаю одно очень тонкое наблюдение молодого Сергея Прокофьева. Услышав однажды шёнберговские фортепианные пьесы соч. 11, он сказал, что в этих пьесах он уловил некую систему, и в них тональное трезвучие будет восприниматься как фальшь. Он был совершенно прав!
Среди исполнителей распространена репертуарная специализация. Есть люди, которые на дух не переносят современную музыку и снова и снова играют Бетховена и Шопена. Есть музыканты, специализирующиеся, напротив, только на новой музыке. И есть, наконец, те, кто это совмещает. Мне кажется, они от этого только выигрывают. Таким музыкантом является, например, Алексей Борисович Любимов, который, когда начинал карьеру, был одним из самых ярых приверженцев авангарда и первым исполнителем в России многих сочинений. Сейчас, когда он играет музыку других эпох (например, самую что ни на есть противоположную авангарду — романтическую), он играет ее, на мой взгляд, совершенно по-другому. И именно благодаря своему авангардистскому бэкграунду. Он иначе ее слышит, в ином контексте.

Арнольд Шенберг играет в теннис со своими детьми
Фото: meakultura.pl
Я думаю, что вообще новая музыка ХХ века никогда не станет такой доступной, как музыка классико-романтического периода. Большую роль здесь играет то, что примерно в эпоху Баха сформировался общий музыкальный язык, который использовали все, — тональная система. Она развивалась, обогащалась, но тем не менее в своих основах оставалась единой для всех. Мы говорим сейчас, конечно, о европейской традиции. А в ХХ веке каждый композитор начал выбирать собственные ориентиры, создавать свою «систему координат», изобретать свой собственный музыкальный язык. Произошло, так сказать, расслоение прежде единого музыкального пространства. И далеко не все готовы в это вникать, тут надо иметь какой-то особый вкус к этому, особую открытость слуха и ума, мне кажется.
Если возвратиться к моему главному герою, помимо того, что он изобрел свой язык в условиях, когда тональные законы уже прекратили существование или, по крайней мере, стали относительными, он стремился к максимальной концентрации высказывания. Шёнберг называл это «музыкальной прозой». Он стремился говорить о самом важном без лишних повторений, без рамплиссажа. И вот эта музыкальная ткань, сочинение, которое состоит только из самого важного, достигло такой степени внутренней концентрации, что стало чрезвычайно трудным для восприятия. И, думаю, такое искусство всегда будет достоянием какой-то небольшой группы людей. Ведь до сих пор происходит так, что Шёнбергу безусловно отдают должное, никто не оспаривает его место в пантеоне музыки XX века. Но тем не менее сказать, что его музыка широко исполняется, что она любима и хорошо известна, нельзя. Сравнительно часто звучат лишь ранние сочинения, эти поздние цветы романтизма — секстет «Просветленная ночь», симфоническая поэма «Пеллеас и Мелизанда». Но даже вокальный цикл «Лунный Пьеро», название которого у всех на слуху (по словам Стравинского, это «солнечное сплетение музыки начала XX века»), можно услышать очень нечасто — возможно, из-за сложности особой мелодекламации, которая в нем использована. В общем, по присутствию по концертной сцене Шёнберг явно уступает своему главному антиподу — Игорю Стравинскому. Но по значению сделанного — нет.
«Цемлинский — важное промежуточное звено между Малером и новой венской школой»
Композитор Александр Цемлинский завладел моим вниманием, потому что эта фигура постоянно возникала рядом с Шёнбергом. Это был учитель, наставник, друг, родственник Шёнберга (он был женат на его сестре). Они очень тесно общались и были духовно очень близки, особенно в начале пути. Потом они все-таки разошлись, потому что даже Цемлинский не во всем разделял шёнберговские устремления и какие-то вещи воспринимал критически. И Шёнберг не мог ему этого простить, особенно отношение к двенадцатитоновой технике — тому, что Шёнберг считал едва ли не главным делом жизни. Цемлинский отнесся к ней очень сдержанно и дистанцированно. Но всё же Цемлинский оставался для Шёнберга большим авторитетом на протяжении всей жизни.
Цемлинский очень важное промежуточное звено между Малером и новой венской школой. Нововенцами принято называть в первую очередь Шёнберга, Берга и Веберна. Но сейчас эту школу часто рассматривают более широко и относят к ней сравнительно многочисленный круг музыкантов, прежде всего учеников Шёнберга. К этому кругу принадлежал и Цемлинский — как человек, оказавший решающее влияние на первоначальное формирование Шёнберга. Другое дело, что потом ученик превзошел самые смелые ожидания учителя, но тем не менее первые шаги Шёнберг делал именно при участии Цемлинского. Я бы сказала, что из круга Шёнберга по своему пронзительному лирическому дарованию, по способности человеческого сопереживания Цемлинский ближе всего к Бергу. И неслучайно они друг друга очень уважали и ценили. Между ними было некое избирательное сродство. Берг посвятил Цемлинскому одну из лучших своих партитур — «Лирическую сюиту» для струнного квартета, процитировав там фрагмент из «Лирической симфонии» Цемлинского.
«Путь исследователя непредсказуем»
Сейчас в моих занятиях австро-немецкой музыкой появился совсем новый сюжет. Дело в том, что когда я занималась Цемлинским, то вдруг обнаружила, что, будучи студентом Венской консерватории в 1890-е годы, он получал стипендию Рубинштейна. Я очень удивилась. Откуда взялся Рубинштейн в Венской консерватории и какой именно это был Рубинштейн? Выяснилось, что речь шла об Антоне Григорьевиче Рубинштейне, основателе первой в России Петербургской консерватории. Он был, мы бы сейчас сказали, «гражданин мира»: много гастролировал как пианист, широко исполнялся как композитор, был желанным гостем во всех музыкальных кругах Европы. И вот в сезоне 1871/72 он принял приглашение возглавить музыкальную деятельность Общества друзей музыки в Вене (это Общество существует поныне, именно ему принадлежит знаменитый Золотой зал, из которого транслируются на весь мир ежегодные новогодние концерты). Таким образом, Рубинштейн единственный раз в жизни принял официальный пост за пределами России и на один сезон осел в Вене. В его обязанности входило проведение концертов Общества и занятия с его хором. Будучи человеком широкой души и выдающимся благотворителем, он передал сбор с одного из своих сольных концертов на учреждение стипендии для тех, кто учится в консерватории Общества друзей музыки. Вот такая невероятная связь установилась между Антоном Рубинштейном и Александром Цемлинским.
Путь исследователя непредсказуем. На нем постоянно открываются неожиданные повороты, новые взаимосвязи и перспективы. В том, что я делаю, мною часто движет любознательность, и я не всегда заранее знаю, куда она меня приведет в следующий раз.

Фото: avaxhome.unblocker.xyz