«Ориентализм» Эдварда Саида увидел свет в 1978 году. С тех пор мода на постколониальные исследования растет, но сам ориентализм, сложившийся в колониальную эпоху, из нашей жизни никуда не делся. Мы по-прежнему смотрим на загадочный Восток сквозь призму романтических представлений о вековой мудрости индийских отшельников, традиционности мусульманских семей и вопиющей роскоши султанских сералей. Другой вариант упрощающего взгляда заключается в сведении высокой мусульманской культуры к рассаднику фундаментализма, ущемления прав меньшинств и прибежищу разгневанных бородачей. Взирая из XXI века, трудно поверить, что не так давно мусульманские поэты воспевали однополую любовь, жаркий эротизм полиамории, спиритические видения и высокое ремесло куртизанок-таваиф. Сегодня мы вооружимся томиком Gender, Sex, and the City: Urdu Rekhtī Poetry in India, 1780—1870, главной индийской специалистки в области гендерных исследований Рут Ванита, электронной библиотекой поэзии урду, рядом научных статей и углубимся в поразительный мир стихотворного жанра рехти.
Поэзия рехти расцвела на севере Индии в начале колониальной эпохи, когда местные правители шаг за шагом теряли реальную политическую власть: после Битвы при Плесси в 1757 году британские торговцы впервые получили контроль над несколькими провинциями Бенгалии, а в 1856 году под предлогом «недостойного правления» аннексировали княжество Аудх; на тот момент английская корона уже владела больше чем половиной территории Индийского субконтинента. В это неспокойной время многие правители (в особенности Великие Моголы в Дели и навабы Аудха со столицей в Лакхнау) направили стремительно скудеющие ресурсы на развитие изящных искусств, музыку, театр, литературу. В наше время так поступают крупные корпорации, которые вкладывают миллиарды в благотворительность, чтобы спасти деньги от фискальных служб. От этого периода до нас дошло огромное количество литературного материала, который во многом еще ждет своих исследователей. Нравы в «городах вечного праздника» царили достаточно фривольные, и недвусмысленное тому свидетельство — поэзия в жанре рехти. Известные поэты находили в ней возможность эпатировать, осваивать новые метафоры и сюжеты, задействовать необычных лирических героев. Для литературы на языке урду новаторский жанр стал глотком свежего воздуха. Как это вышло?
 Поэтическая форма газелей (самой распространенной формы стихотворения в арабской, персидской, пуштунской и еще множестве литератур — небольшой поэмы с монорифмой и подписью автора, включенной в заключительную строфу) когда-то получила бурное развитие в среде мистиков и поэтому всегда, даже в более секулярные времена, пестрила суфийским лексиконом и отличалась крайней иносказательностью. Однако приводящие в восторг множественные смыслы персидских и индийских газелей тесно связаны с крайней ограниченностью арсенала устойчивых метафор.
Поэтическая форма газелей (самой распространенной формы стихотворения в арабской, персидской, пуштунской и еще множестве литератур — небольшой поэмы с монорифмой и подписью автора, включенной в заключительную строфу) когда-то получила бурное развитие в среде мистиков и поэтому всегда, даже в более секулярные времена, пестрила суфийским лексиконом и отличалась крайней иносказательностью. Однако приводящие в восторг множественные смыслы персидских и индийских газелей тесно связаны с крайней ограниченностью арсенала устойчивых метафор.
(Здесь пытливый читатель может спросить: почему это я не различаю урду и персидскую литературы? В этом нет большой нужды, поскольку Индия до XIX века была крупнейшим центром персидской литературы, персидский использовался как язык делопроизводства в государстве Великих Моголов, многочисленных княжествах, возникших на руинах их империи, и даже какое-то время при владычестве Ост-Индской компании).
О каких метафорах речь? Мотылек и свеча, соловей и роза, кипарис за высокой стеной сада; взгляды-стрелы из бровей-луков, локоны-сети, в которые попалась птица-душа; старец, который отбросил все приличия и пьет вино истины в борделе, лицемерный аскет, кичащийся своей репутацией, вызывающий эротические переживания мальчик-тюрок с пушком над верхней губой, строгий мухтасиб, представитель полиции нравов. К дьяволу все приличия, виночерпий, неси же вина! Все это берет начало в высоком мистическом чувстве, пусть даже большинство авторов, писавших на фарси и урду, не имели особого отношения к религии. К этому списку следует прибавить персонажей арабского (Маджнун и Лейла, ушедший караван) и персидского эпоса (Рустам, Джамшид, Хосров и Ширин, птица Симург, феи-пери) и кораническую традицию (прекрасный Иосиф, мудрый Моисей, зловредный Фараон, кудесник Иисус). Уроженцы Индии позволяли себе похулиганить и прибавить к незыблемому канону персонажей индийской мифологии. На этом в целом допустимый набор метафор и героев заканчивался и начиналось столь любимое ценителями виртуозное жонглирование смыслами.
Приведем в пример классическое стихотворение Хафиза в переводе Марины Рейснер:
Грудь моя от сердечного жара в тоске по любимой сгорела.
Этот дом был охвачен пламенем, жилище это сгорело.
Тело мое плавилось в разлуке с любимой,
Сердце мое в огне красоты ее лика сгорело.
В каждом, кто узрел цепи локонов той периликой [пери — прекрасная фея],
Страдающее сердце от жалости ко мне, безумцу, сгорело.
Взгляни, как в сострадании к моим горючим слезам сердце свечи
Под вечер от любви, как мотылек, сгорело.
Близкий, а не чужой, сочувствует мне,
[Ведь], когда я расстался с самим собой, сердце,
[ставшее мне] чужим, сгорело.
Власяницу воздержания унесли от меня воды Харабата [Харабат — таверна, воды Харабата — вино],
Жилище моего разума спалил огонь питейного дома.
Поскольку пиала сердца от данного мною обета разбилась,
Душа моя, словно тюльпан, без вина и без чаши сгорела.
Не ищи приключений, вернись, ведь зрачки моих глаз
Сорвали власяницу и из благодарности сгорели.
Оставь свои сказки, Хафиз, испей глоток вина,
Ведь мы не спали всю ночь, а свеча под звуки сказки сгорела
Поиск метафор в таком тексте — сам по себе интересный квест, и по мере освоения новых произведений растет радость узнавания. Сможете найти все образы?
 Своеобразие жанра рехти, в свою очередь, заключается в принадлежности к условно женской и потому «домашней», приватной сфере жизни. Само слово «рехти» — это женский род от термина «рехта», которым в урду называют классическую поэзию. Чаще всего произведения рехти написаны от женского лица, и говорится в них о том, что скрывалось от посторонних глаз: событиях, которые разворачивались в женской половине дома, отношениях с соседями, бытовых проблемах и неурядицах, сексуальных отношениях с мужчинами и женщинами — не высоких трагических переживаниях неразделенного чувства, а именно физической связи, томлении плоти. И хотя почти вся поэзия, что дошла до наших дней, написана мужчинами (ниже мы коснемся, умаляет ли это их эмансипационную ценность), удивляет и восхищает то, с какой детальностью и живостью описаны мелочи «домашней» жизни. Авторы-мужчины детально выучивали термины и обороты, использовавшиеся на женской половине дома, чтобы потом корректно и к месту использовать их в своих газелях, и тем открыли для себя и слушателей огромный мир новой образности, а современным исследователям — колоссальное и почти не изученное поле материальной культуры восточного города XVII–XIX веков.
Своеобразие жанра рехти, в свою очередь, заключается в принадлежности к условно женской и потому «домашней», приватной сфере жизни. Само слово «рехти» — это женский род от термина «рехта», которым в урду называют классическую поэзию. Чаще всего произведения рехти написаны от женского лица, и говорится в них о том, что скрывалось от посторонних глаз: событиях, которые разворачивались в женской половине дома, отношениях с соседями, бытовых проблемах и неурядицах, сексуальных отношениях с мужчинами и женщинами — не высоких трагических переживаниях неразделенного чувства, а именно физической связи, томлении плоти. И хотя почти вся поэзия, что дошла до наших дней, написана мужчинами (ниже мы коснемся, умаляет ли это их эмансипационную ценность), удивляет и восхищает то, с какой детальностью и живостью описаны мелочи «домашней» жизни. Авторы-мужчины детально выучивали термины и обороты, использовавшиеся на женской половине дома, чтобы потом корректно и к месту использовать их в своих газелях, и тем открыли для себя и слушателей огромный мир новой образности, а современным исследователям — колоссальное и почти не изученное поле материальной культуры восточного города XVII–XIX веков.
Герои поэзии рехти — женщины всех социальных положений и профессий, начиная от прислуги и респектабельной домохозяйки до артистки и куртизанки, а также мужчины разного социального положения: базарные торговцы, мистики, поэты, повесы-бездельники, офицеры, которые обычно выступают собеседниками, друзьями, супругами или любовниками главных героинь. Если говорить в формальных терминах, то классическая форма поэзии рехта предполагает (грамматически) мужской голос, обращенный к возлюбленной или возлюбленному, будь то человек или Творец (обычно тоже в мужском роде), в то время как поэзия рехти — (грамматически) женский голос.
Обширный материал традиции рехти, помимо неоспоримых литературных достоинств, служит еще и неожиданной и очень откровенной иллюстрацией того, как под спудом патриархального общества сложными путями прорастали личная свобода, сексуальная независимость и горизонтальные социальные связи угнетенных женщин. Многочисленные диалоги, монологи-жалобы и сценки складываются в красочную мозаику жизни мусульманского города.
Поэзия рехти пестрит описаниями городских топосов, что отличает ее от классической поэзии рехта, где набор локаций ограничен мечетью, дворцом, базаром и питейной лавкой. Более «приземленные» «женские» стихи живописуют лавки ремесленников, внутренние комнаты и дворики, крыши, где по сию пору в Азии располагается пограничное пространство между приватным и публичным, сады и берега рек, языческие храмы и могилы суфийских шейхов, места поэтических вечеров-мушаиров и красочных празднеств в Дели и Лакхнау.
До нашего времени дошли сборники стихов лишь самых популярных сочинителей рехти, и, как я уже говорил, практически все они мужчины. Да и посетителями мушаиров, как правило, были почти исключительно мужчины: поэты и музыканты, высшие офицерские и административные чины, знатные покровители изящных искусств. Но не стоит делать поспешных выводов о том, что обращение к женскому голосу служило исключительно для реализации мужских сексуальных фантазий или насмешек.
Так, например, поэт Абид Мирза, творивший под псевдонимом Бегум Лакхнави, Госпожа из Лакхнау, воспевал женщин как обладательниц привилегированного доступа к самому источнику поэзии (перевод по англоязычному источнику в книге Рут Ванита):
Женщина — нимфа в раю языка,
Если она из сада Лакхнау
Женщина — монета в стране языка, ценная во всем мире
Женщины — настоящий источник языка
Откуда у несчастных мужчин человеческая речь?
Исконное право женщин — знание языка.
Как можно бороться с языком с помощью языка?
Как считает Рут Ванита, авторы поэзии рехти, играя с гендерными ролями, нарушая общественные нормы, меняя одежды и образы, создавали новую городскую идентичность. Таким образом, несмотря на свой бесспорный развлекательный и увеселительный характер, поэзия рехти заключала в себе мощный эмансипационный потенциал, предоставляя голоса женщинам, секс-меньшинствам и иным угнетенным слоям общества.
 Возможно, что в жанре рехти писали и женщины, а то, что до нас не дошли их произведения — случайность и насмешка судьбы. Еще одна исследовательница Карла Петевич считает, что подобные произведения, если и были, то крайне немногочисленны, и вот по какой причине: большинство поэтесс, чтобы легитимировать свое вторжение в социальное пространство и отвоевывать место в мужской иерархии, писали в «более серьезном» жанре рехта. В XVIII и первой половине XIX века в Северной Индии было множество поэтесс. Большая часть авторов выходила из числа куртизанок, но писали стихи иногда и замужние дамы. В 1864 году под редакцией Хакима Фасиуддина Ранджа вышла печатная антология «Бахаристан-и Наз», «Цветущий сад кокетства», включавшая лучшие произведения 174 поэтесс, писавших на урду и фарси. Крайне популярная в свое время Мах Лака Чанда Баи лично преподнесла сборник своих стихов в подарок одному из глав Ост-Индской компании Джону Малкольму, то есть, по сути, налаживала политические связи, а также вкладывала средства в проведение нескольких крупных религиозных торжеств. А имя самой знаменитой куртизанки-поэтессы наверняка знакомо многим российским читателям: по мотивам удивительной и трагической биографии Умрао Джан из Лакхнау написано несколько романов и снят почти десяток фильмов, в том числе крайне популярная в СССР лента «Красавица Умрао» Музаффара Али.
Возможно, что в жанре рехти писали и женщины, а то, что до нас не дошли их произведения — случайность и насмешка судьбы. Еще одна исследовательница Карла Петевич считает, что подобные произведения, если и были, то крайне немногочисленны, и вот по какой причине: большинство поэтесс, чтобы легитимировать свое вторжение в социальное пространство и отвоевывать место в мужской иерархии, писали в «более серьезном» жанре рехта. В XVIII и первой половине XIX века в Северной Индии было множество поэтесс. Большая часть авторов выходила из числа куртизанок, но писали стихи иногда и замужние дамы. В 1864 году под редакцией Хакима Фасиуддина Ранджа вышла печатная антология «Бахаристан-и Наз», «Цветущий сад кокетства», включавшая лучшие произведения 174 поэтесс, писавших на урду и фарси. Крайне популярная в свое время Мах Лака Чанда Баи лично преподнесла сборник своих стихов в подарок одному из глав Ост-Индской компании Джону Малкольму, то есть, по сути, налаживала политические связи, а также вкладывала средства в проведение нескольких крупных религиозных торжеств. А имя самой знаменитой куртизанки-поэтессы наверняка знакомо многим российским читателям: по мотивам удивительной и трагической биографии Умрао Джан из Лакхнау написано несколько романов и снят почти десяток фильмов, в том числе крайне популярная в СССР лента «Красавица Умрао» Музаффара Али.
Фигура куртизанки-таваиф вообще является ключевой для литературной и музыкальной культуры того времени. Патриархальное мусульманское общество предполагало для женщины один путь — замуж и на закрытую женскую половину дома. Сложная карьера куртизанки зачастую оказывалась единственной альтернативой. Известные таваиф были поэтессами, танцовщицами и музыкантами, которые искусно пользовались расположением мужчин, попадали туда, куда простым женщинам вход был заказан — например, на дворцовые приемы, мушаиры, охотничьи выезды. Иными словами, таваиф одновременно реализовывали потенциал своих талантов, упорства и женского обольщения. Достигнув зрелого возраста, успешные куртизанки могли аккумулировать значительное состояние, основать свою школу таваиф либо «остепениться» и выйти замуж. Не имея возможности побороть патриархальные устои или же существовать вне их, танцовщицы использовали их как карьерный инструмент. И конечно же, такой путь был тернист и полон опасностей. Угрозы нежелательной беременности, изнасилования и перспектива закончить жизнь в дешевом борделе всегда преследовали таваиф.
 В такой атмосфере рождался удивительный поэтический жанр. Что же выходило из-под калама дерзновенных поэтов урду? (Ради научной честности необходимо упомянуть, что в силу малой доступности произведений примерно четверть приведенных примеров переведена автором данного материала с оригинала на урду, остальные — с английского подстрочника).
В такой атмосфере рождался удивительный поэтический жанр. Что же выходило из-под калама дерзновенных поэтов урду? (Ради научной честности необходимо упомянуть, что в силу малой доступности произведений примерно четверть приведенных примеров переведена автором данного материала с оригинала на урду, остальные — с английского подстрочника).
Некоторые стихи представляют собой, как сказали литературоведы советской школы, «шутливые сценки бытовой жизни», подобно этому фрагменту из Рангина:
Когда принесла лиф, что сшила для меня, белошвейка
Гордясь результатом своих трудов, смеялась она, белошвейка
Чтоб умерить ее гордыню, я сказала:
Послушай меня, подойди, госпожа белошвейка!
Как плохо ты выкроила этот лиф сзади!
Он свободно болтается, как бы туго я его ни затягивала, белошвейка!
Другие описывают любовно-бытовые сложности. В этом фрагменте от лица девушки, претерпевающей от неусыпного надзора гувернантки, тот же автор рассказывает, как сложно тайно провести в дом объект своей любви:
Желаю тебе умереть, няня,
Пусть весть о твоей смерти дойдет до твоего дома, няня
Ты не позволяешь ступить мне и шагу, увы, увы,
Как мне вырваться из рук твоих, няня?
Я бы хотела, чтобы кто-нибудь измельчил много красного перца
И всыпал его в твои глаза, няня. . .
Я бы достала сегодня своих кукол,
Если бы только няня ушла утром домой. . .
Вчера ты сказала, что дашь мне сегодня выходной
Что мне делать теперь , если ты не сдержала слово, няня?
Ты не позволяешь мне выйти на крышу
Я бы поднялась наверх, если бы только она пошла домой, эта няня
И если я пошлю тебе сообщение, Рангин,
Она тут же придет и зарежет тебя, эта няня!
Героини поэзии рехти высказывают обыденные желания, понятные любому современному человеку, и тем самым нарушают литературную конвенцию, в рамках которой достойной темой была лишь чистая неразделенная страсть — не то к смертному объекту своей любви, не то любви к Господу. Так, героиня стихотворения поэта, писавшего под псевдонимом Инша, ищет забытья в объятиях бывшего любовника (или любовницы, поскольку автор скрывает пол партнера):
Ради сердечной близости мне пришло в голову уйти ненадолго
Чтобы провести время, наслаждаясь знакомством с бывшим любовником
Укусы за пальцы, раздутые ноздри, отчаянно
Он сказал: достаточно, будь добра и пощади мои года
 Значительная часть поэзии в жанре рехти — как газелей, так и форм меньшего размера, — посвящена любви и сексуальным связям между женщинами. В этой газели Рангина замужняя женщина готовится к визиту подруги:
Значительная часть поэзии в жанре рехти — как газелей, так и форм меньшего размера, — посвящена любви и сексуальным связям между женщинами. В этой газели Рангина замужняя женщина готовится к визиту подруги:
Я пошлю за украшениями и назначу встречу,
Я должна обмакнуть свое платье в розовую воду,
Я расстелю нетронутый белый ковер
И на нем будет лежать кинжал, как намек!
Я закажу цветочные украшения, кардамон и гвоздику,
А также новый кальян и глиняную чашу для табака.
Желание непреодолимо:
Бутоны и цветы не влекут меня,
Девочка моя, твои аллеи влекут меня.
Кардамон и бетель [жевательная смесь] не влекут меня,
Лишь те жемчужины, что ты прячешь во рту, влекут меня!
(Инша)
Встречи проходят бурно. Любовница замужней женщины обозначается обычно словами «занакхи» или «ду-гана».
Когда ты привязываешь сабура [фаллоимитатор] к талии,
Я взволнована и не могу держать себя в руках, ду-гана
Как мне не воспевать свою ду-гана?
Клянусь тобой, он такой короткий и полный озорства, ду-гана
Когда ты скользишь чуть ниже и трешь меня,
Я очарована тобой, о мое невинное увлечение, ду-гана
(Рангин)
Я грязна и неумыта, дай мне принять ванну, моя девочка.
Неужели я хоть раз отказывала тебе в этом?
(Кайс)
Любые отношения могут окончиться болезненным разрывом:
С тех пор, как моя ду-гана бросила меня,
Дом мой пуст, а город будто заброшен.
(Кайс)
В целом в поэзии рехти хватает пассажей, которые звучат исключительно злободневно:
Госпожа воспитательница, как возможно, что это все еще под запретом?
Я и моя ду-гана совершили обряд мут`а [Принятая у шиитов форма брачного договора, часто с оговоренной заранее продолжительностью союза]
(Нисбат)
Как я уже говорил, жанр рехти перетряхнул канон и открыл символический потенциал ранее не задействованных мелочей. Вот лирический герой Инша заигрывает с любовницей:
Когда, играя, я набегаю черной тучей
Шнурок твоих штанов рвется, ослепляя меня, словно молния.
А вот тот же образ использует Рангин от женского лица:
О пери, что можно сказать о твоем шнурке?
Твой шнурок прекраснейший из всех шнурков.
Казалось, молния вспыхнула перед моими глазами!
Твой шнурок развязался в темных облаках.
В поэме того же автора подруга советует поэту, как завоевать возлюбленную:
Занимай ее болтовней и спорами,
Пока срываешь совсем другие цветы в ее постели,
Пока топчешь травы и кусты в ее цветнике,
Пока тайно выжимаешь сок из пары апельсинов.
Город как социальная сеть держится на слухах, сплетнях и кривотолках. Защитить свою честь и скрыть связи было насущной необходимостью для большинства горожанок:
То, что занакхи приходила ко мне вчера вечером, — это неправда.
Как мы вообще могли встретиться? — это неправда
Моя лежанка стояла во дворе — какой дорогой она могла прийти,
Перебраться через такую высокую стену! — Это совершенная неправда.
(Инша)
Молодые девушки в страхе перед осуждением общества вынуждены сдерживать свои желания:
Сестренка, ты хочешь от меня близости!
Невозможно быть двум девушкам в такой близости,
Прекрати соблазнять меня, уходи!
Что ты называешь любовью, эту возможность близости?
Эти игры в жениха и невесту, о Инша,
Лишь для падших женщин, желающих такой близости!
А более искушенные, наоборот, не стесняются своих желаний и ищут единомышленниц, как в поэме Джураты Лакхнави:
Давай позовем в наш дом всех «играющих» женщин,
Пригласим их в залы, полные цветов и бетеля, обнимем,
Окропим их розовой водой, а когда они начнут жаловаться на своих мужей,
Мы с тобой затянем песню, научим их нашей припевке:
«Приходи, ду-гана, давай поиграем!»
Еще один представитель жанра, Джан Сахиб, писал в более позднюю эпоху, в начале XIX века, когда над Индией уже реяло знамя Ост-Индской компании и повсюду ощущался кризис и упадок. Эти обстоятельства отразились во многих стихотворениях, например, в этом, где поэт от лица старухи оплакивает ушедшую юность и красоту:
Я теперь того пола, которому не достается любви
Кто меня купит, покупателей не осталось
Чей взгляд остановится на погасших глазах?
Наполненные нектаром очи исчезли
Цветочное лицо, ароматные локоны исчезли,
Что показать — слова остались, но посмотреть не на что
Ни тонкой шеи, ни упругих ягодиц
Приятная талия и чресла исчезли
Холмы, когда-то похожие на сдобные булки, теперь плоские лепешки.
Груди уж больше не круглы, подобно сладким сахарным шарикам.
. . .
Где женская притягательность, ради которой мужчины привыкли умирать?
То, что было раньше во мне, о подруги, ушло
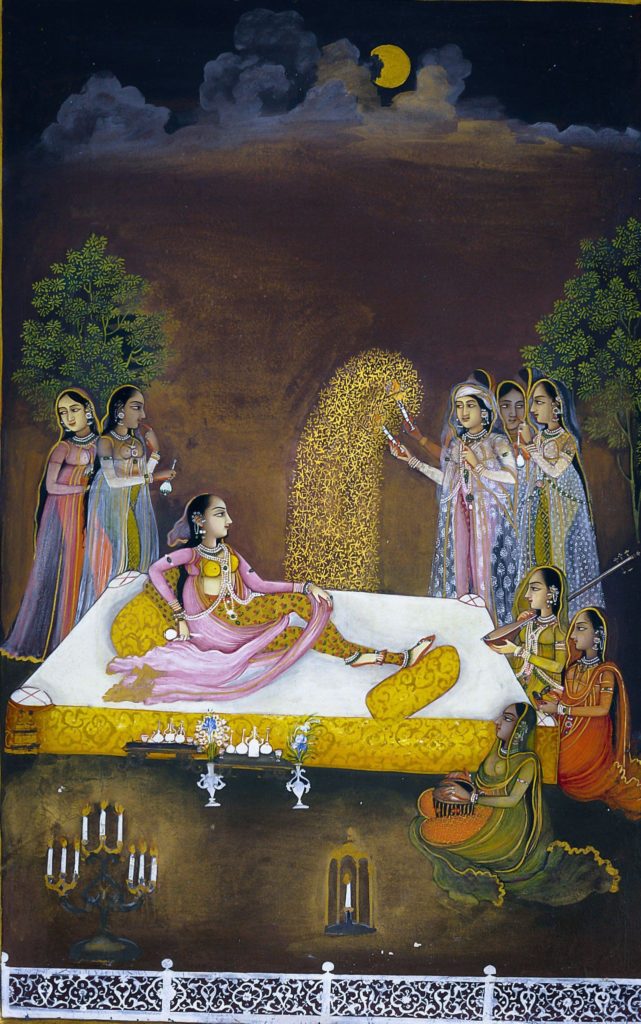 К середине XIX века жанр рехти стал клониться к закату. Это особенно видно по произведениям позднего поэта Джана Сахиба и его учеников, в которых все чаще звучит менторский тон и осуждение фривольного поведения. Смертельный удар рехти и всей индийской литературе нанес 1857 год, год Сипайского восстания, которое в английском языке называют Великим мятежом, а индийцы — Первой войной за независимость. Солдаты колониальной армии, сипаи, сбросили английское командование и стеклись в крупные города, где к ним присоединялись все новые и новые группы недовольных оккупантами. Восстание, которое могло обернуться крушением Британской империи, потерпело сокрушительное поражение из-за разногласий в стане повстанцев. Хотя большинство солдат колониальной армии исповедовали индуизм, колониальные власти назначили главными виновниками восстания мусульман. Вероятно, дело в том, что значительная часть местных князей была мусульманами, а возможно, потому, что сипаи принесли клятву верности последнему Великому Моголу, падишаху Бахадур Шаху Зафару II, который на момент восстания был глубоким стариком, обнищал и с трудом контролировал даже собственный гарем.
К середине XIX века жанр рехти стал клониться к закату. Это особенно видно по произведениям позднего поэта Джана Сахиба и его учеников, в которых все чаще звучит менторский тон и осуждение фривольного поведения. Смертельный удар рехти и всей индийской литературе нанес 1857 год, год Сипайского восстания, которое в английском языке называют Великим мятежом, а индийцы — Первой войной за независимость. Солдаты колониальной армии, сипаи, сбросили английское командование и стеклись в крупные города, где к ним присоединялись все новые и новые группы недовольных оккупантами. Восстание, которое могло обернуться крушением Британской империи, потерпело сокрушительное поражение из-за разногласий в стане повстанцев. Хотя большинство солдат колониальной армии исповедовали индуизм, колониальные власти назначили главными виновниками восстания мусульман. Вероятно, дело в том, что значительная часть местных князей была мусульманами, а возможно, потому, что сипаи принесли клятву верности последнему Великому Моголу, падишаху Бахадур Шаху Зафару II, который на момент восстания был глубоким стариком, обнищал и с трудом контролировал даже собственный гарем.
Княжеский двор в Лакнау был упразднен британцами за год до великого восстания — колониальные власти обвинили правителя, наваба Ваджид Али Шаха, в недостойном правлении и развращенности. Шокированный правитель еще несколько лет требовал вернуть себе земли, оббивая лондонские пороги и требуя аудиенции у королевы Виктории. Великий Могол Бахадур Шах Зафар II закончил дни в ссылке в Рангуне, так и не поняв, почему британцы — вчерашние вассалы — вдруг обвинили падишаха Индии в измене. Его могилу колониальные власти стерли с лица земли, чтобы избежать возможного паломничества. Схожая участь постигла значительную часть княжеских дворов, уничтожив среду, в которой прежде рождалась высокая литература. Участь куртизанок была незавидна: британским офицерам прямо запрещалось иметь романтические связи с туземными женщинами, кроме дешевых проституток, и таваиф оказались вне закона, согласно своду правил, известному как Anti Nautch Bills, Законы против танцовщиц.
Осознав поражение, индийские мусульмане принялись искать причины, почему они не смогли выстоять в битве с колониальной властью. Ответ, который предлагали антиколониальные и вместе с тем фундаменталистские течения, удивительно резонировал с пуританской этикой: мусульмане изнежены и развращены, сочиняют декадентские стихи об однополой любви, курят хукку, забыли Божьи заповеди и не могут держать в руках меч! Во второй половине XIX века новое поколение мусульман, вооружившись печатной прессой, многотиражными памфлетами и идеями очищения ислама, начало наступать на неудобные литературные жанры, музыкальные бдения и другие, по их мнению, неприглядные стороны общественной жизни. Критик Мухаммад Хуссейн Азад, составитель истории литературы урду, по которой до сих пор учат большинство студентов в Индии и Пакистане, оставил за бортом своего учебника весь пласт женской литературы — и рехти в том числе. Моральным камертоном в индийской мусульманской среде стали пуритански настроенные реформаторы, презиравшие «туземные» проявления религиозного чувства — поэзию, музыку, популярный культ святых — и поддерживающие идеал патриархального семейного уклада.
Любопытно, что Инша, один из важнейших представителей жанра рехти, предсказал подобный конец:
Угнетенное сердце страстями разграблено.
Моя кибла [направление на Мекку, метонимически — святилище] ваххабитами разграблена...
