Самоповторы истории
Власть и общество в сборнике Владимира Шарова «Искушение революцией»
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Неоднозначное положение Владимира Шарова (1952–2018) в словесности 1990–2010-х давно стало общим местом. С одной стороны, писатель был отмечен комитетами больших премий, а частью литературного мира воспринимался в числе крупнейших постсоветских романистов. Его творчеству посвящали тексты Михаил Эпштейн, Александр Эткинд, Марк Липовецкий, Илья Кукулин, Михаил Шишкин и другие яркие исследователи и деятели культуры. С другой же, для широкого круга читателей Шаров остается неизвестным. Двойственно воспринимается и наследие Шарова. Вспоминают прежде всего его романы, а эссеистике и поэзии уделяется куда меньше внимания.
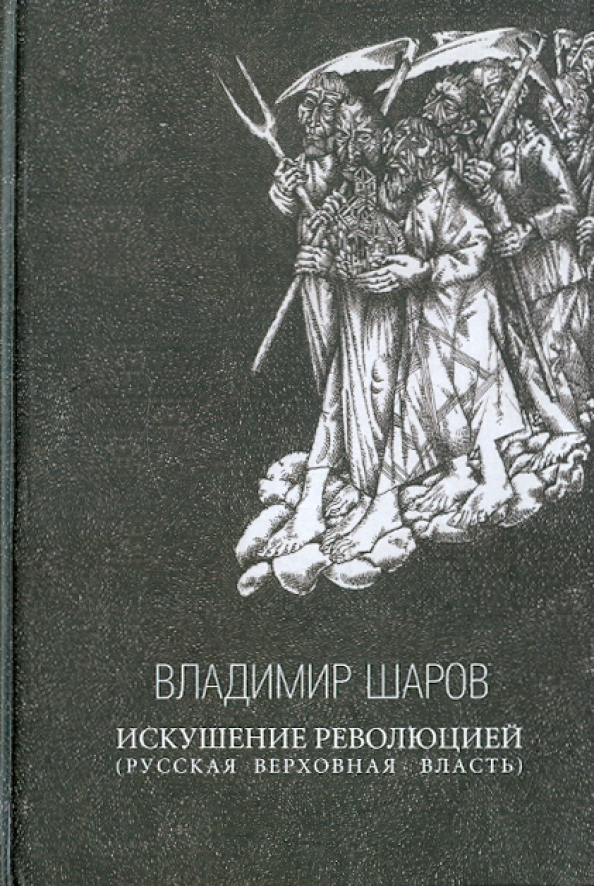
Кандидат исторических наук и автор ряда научных публикаций Владимир Шаров в романах отразил собственное видение российской истории и прежде всего глубинную связь царского и советского периодов. До последнего времени эссе Шарова виделись скорее теоретическим фундаментом его романов или историко-философским комментарием к ним. Если в романах звучал голос персонажей, то в эссе говорил сам Шаров. Первый его сборник «Искушение революцией» был издан в 2009-м, но сегодня, по прошествии 16 лет, он воспринимается куда злободневнее, чем в момент выхода. До последнего времени вопросы, поднимаемые в этой книге, казались отвлеченными, но в начале 2020-х они встали перед российским обществом во всей своей остроте. Тут и выяснилось, что эссе Шарова, вопреки историческому ракурсу, вовсе не о прошлом.
«Искушение революцией» оказалось книгой для турбулентного времени. Она помогает осмыслить его на отстраненном, не «кровоточащем» материале. При этом сборник становится важным концептуальным кирпичиком для архитектуры перемен — пусть и описывает их «от обратного». Даже стиль изложения вошедших в него текстов — ясный, немногословный и несколько схематичный — куда доступнее для переутомленного фоновым стрессом читателя, чем сложные романы Шарова.
Почти все эссе из «Искушения…» посвящены структуре взаимоотношений между властью и обществом в России XVI–XX вв. и их идейной базе. Особое внимание Шаров уделяет «верховым революциям» — ситуациям, когда правитель радикально меняет правила игры, избавляется от ограничений и сосредоточивает в своих руках всю полноту власти. Такие перемены «сверху» сопровождаются многочисленными человеческими жертвами, а за ними следует кризис, связанный с разрушением традиции. Именно через эту призму в книге показаны Иван IV Грозный, Петр I, Иосиф Сталин. В логике Шарова «верховые революции» — не только следствие сложившихся в России взаимоотношений между властью и обществом, но и наиболее последовательное их воплощение.
Во вступлении к книге Шаров пишет о пересечениях и самоцитатах, встречающихся в эссе, которые он решил оставить как «рефрены». Они — лучшее свидетельство цельности сборника, притом что самые ранние его тексты были написаны в 1980-е, а поздние — в 2000-е. Похожа и история их публикаций: некоторые эссе Шаров издавал не раз, причем и в 1990-е, и в 2000-е, а к отдельным сюжетам возвращался и после выхода «Искушения…». Интерес писателя к обозначенной выше проблеме и ее эссеистическому осмыслению был устойчивым. Впрочем, последовательность в случае Шарова совсем не удивляет.
Последние собеседники Бога на Земле
В своем творчестве Шаров постоянно обращается к нескольким концепциям, которые считает ключевыми для понимания российской истории. Одна из них — «Москва — Третий Рим», приписываемая псковскому монаху Филофею (1520-е). Наиболее подробно Шаров анализирует ее в эссе «Верховые революции» и «Между двух революций». Во втором из них упоминается и «Сказание о князьях Владимирских», возникшее примерно в те же годы. Согласно этим текстам, Московское царство (а затем и Российская империя) становилось преемником сокрушенных Рима и Византии.
В 1453-м османы захватили Константинополь, в результате чего государь всея Руси Иван III оказался «единственным независимым православным государем, а значит, и единственным истинно христианским монархом на свете». Его второй супругой стала Софья Палеолог, принадлежащая к последней византийской династии. Брак подкрепил представление Москвы о своем наследовании Константинополю. Эти символические моменты совпали с достижениями во внешней политике (в том числе окончательным освобождением от ордынской зависимости). «Соотношение между влиянием бояр и влиянием великого князя меняется в правление Ивана III», — отмечает Шаров. С одной стороны, «В правление Ивана III происходит драматическое увеличение силы, власти, влияния, народного престижа великокняжеской власти». С другой, «слабеет само боярство», до этого проводившее «чрезвычайно успешную и последовательную политику».
Шаров подчеркивает, что из концепции «Москва — Третий Рим» вытекает и наследование Древнему Израилю (Москва — еще и второй Иерусалим). В эссе «Между двух революций» Шаров пишет, что в текстах монастырских книжников сформировался взгляд, согласно которому: 1) Русь оказалась «новой Святой землей», 2) ее жители — «новым народом Божьим», 3) а цари — «Его наместниками на земле». При Иване IV Грозном, отмечает писатель, в чин венчания на царство был введен обряд помазания, который уподоблял русских царей Христу. Новая Святая земля при этом находилась во враждебном окружении иноверцев, мир лежал во зле и неумолимо приближался к апокалипсису («Четвертому» Риму, как известно, «не бывать»). Последний взгляд для христианства на Руси новым не был.
Описывая миграцию славян из Южной Руси на северо-восток, Шаров объясняет, что они расселялись малыми (редко — три двора) поселениями, которые были окружены лесами, тянувшимися на много километров. Природа (и завязанное на ней язычество) таила в себе угрозу, а борьба с ней оказалась суровым испытанием, которое, в трактовке писателя, уподоблялась подвижничеству, религиозному подвигу. По Шарову, именно отсюда произрос «российский пафос преобразования природы, борьбы с ней, насилия над ней, проявившийся, может быть, наиболее ярко в петровских каналах в Петербурге и в строительстве первых пятилеток советской истории».
Дело переселенцев было подхвачено монахами-отшельниками, которые селились в удаленных от цивилизации монастырях: «Русское христианство и сформировано этим поразительным одиночеством на маленьких островках, затерянных среди бесконечных лесов. Оторванные от всех и вся, окруженные со всех сторон язычеством, а потом басурманством, они привыкли смотреть на себя как на единственных христиан, последних защитников и хранителей веры».
Ощущение постоянно угрожающего окружения, мира, таящего в себе смертельную опасность, природных условий, требующих борьбы на износ и трудного возделывания, а кроме того, конечно, многочисленных искушений, на кои падка греховная человеческая природа, — все это порождало специфическую психологию. Она легко усваивала идею «осажденной крепости», на положении которой оказалась новая «Святая земля».
Принципиально, что статус «наместника Бога» определил иноприродность монарха по отношению к подданным. Он буквально становился существом, принадлежащим к высшему, горнему миру, и в восприятии не отягощался греховной земной природой. Иноприродность ставила царя неизмеримо выше жителей страны. Роль «проводника Божьего замысла» наделяла безграничной властью. Шаров иллюстрирует это, обращаясь к тезисам Ивана IV Грозного в переписке с Андреем Курбским. Царь упирает на то, что, противясь его воле, Курбский противится воле Божьей, не проводя разграничений. Заявляет, что «Истина и свет для народа в познании Бога и от Бога данного государя» и «Жаловать своих холопий мы вольны и казнить их также вольны». Из Господнего «наместника» правитель вполне может мутировать в псевдобога — стать и «Родиной», и «Истиной».
Божественный скульптор
В такой государственнической модели патриотизм подданных заключается в беспрекословном подчинении власти и исполнении ее (читай: божественной и априорно правильной для страны) воли. Отношения «власть — общество» складываются как строго субъект-объектные. Граждане оказываются своего рода мертвой глиной в руках божественного скульптора и в результате его усилий оборачиваются объектами серийного идеологического творчества — своего рода «терракотовой армией».
«Власть на Руси очень рано открыла для себя замечательный физический закон, который гласит, что волна, звук лучше всего распространяется в однородной, гомогенной среде», — пишет Шаров в эссе «Икона Святого Георгия Победоносца с клеймами». И там же объясняет, что гомогенность достигается в том числе «безжалостным уравниванием и выравниванием подданных», крайними формами которого оказываются армия или лагерь. Так граждане воспринимаются сугубо как элементы масштабной композиции с предусмотренным местом и назначением: лишаясь индивидуальности, они низводятся до функциональной роли.
Отчасти такое положение вещей оправдывается укорененностью людей в посюсторонней, погрязшей во грехе реальности — если так можно выразиться, их чрезмерной природностью. В том же эссе Шаров оригинально интерпретирует образы Георгия Победоносца и поражаемого им змея. Подобно святому, власть (когда глаголом, а когда и «копьем») ведет борьбу за души подданных вопреки их земной природе. Возвращаясь к метафоре скульптора: «наместник Бога» отсекает природные индивидуальные неровности, добиваясь правильной формы — ровного кирпичика, который честно ляжет в фундамент великого здания.
Эта мировоззренческая конструкция подразумевает последовательное жизнеотрицание. Божественное непреодолимой преградой отделено от посюстороннего мира. Цель государственного «сакрального» творчества закономерно лежит за пределами естественной реальности — если не в горнем мире, то в пространстве геополитических абстракций (имперское расширение территории «Святой земли» посредством колонизации и войн) или в неопределенном будущем (коммунистическая утопия как строительство Царства Божьего на земле, своими руками). Иноприродный правитель обладает уникальным доступом, ключом к этим вполне эфемерным пространствам, которые при таком мировоззрении оказываются реальнее реальности. И тут уже эфемерными становятся человеческие «здешние» жертвы — хоть бы счет шел на миллионы.
Завоевание собственной страны
Российская власть, конечно, не всегда выстраивала отношения с гражданами столь жестко. Описанное выше — наиболее радикальный вариант, проистекающий из государственнических установок. Однако в некоторые исторические периоды он воплощался в реальность. Шаров называет их «верховыми революциями». Первым, как бы протореволюционером видит Андрея Боголюбского. Его более успешные последователи — Иван IV Грозный, Петр I, Сталин и в какой-то степени Ленин. «Революция сверху» нацелена на достижение абсолютной полноты власти, обещанной сакральным статусом. Правитель-революционер стремится преодолеть контроль со стороны традиций и охраняющей их элиты (у Ивана IV и Петра I — бояре и религиозные власти, у Сталина — большевики старшего поколения).
Этот процесс подразумевает радикальный разрыв с прошлым — его символическое и деятельное отрицание, а также рывковое построение новой, уже полностью подвластной государю «нормальности». «Верховой революции» непременно сопутствует раскол страны, во многом умышленно провоцируемый правителем и напоминающий искусственную гражданскую войну. За первым разделением на власть и подданных следует второе — на лояльных и нелояльных. И те и другие объективируются как «средства» и «препятствия». Играющая по новым правилам лояльная часть объединяется против названного внутреннего врага (сторонники прежнего порядка, реальные и мнимые, оказываются символически выселены за границу, чем дополнительно подчеркивается их инородность). Затем «новая» страна завоевывает «старую», переустраивая ее на актуальных основаниях.
Наиболее иллюстративными, с этой точки зрения, выглядят разделение Московского царства на опричнину и земщину (на символическом уровне последняя ассоциировалась с татарами), а затем буквально военные походы на земские территории. Показательны, впрочем, и сталинские репрессии против «врагов народа», многие из которых недавно были непоколебимыми большевиками.
Добиваясь установления абсолютной объектности граждан и «гомогенности» общества, власть по обыкновению не считается с ценой, неизбежно пуская в расход не только конкретных людей, но и будущее страны. Мобилизация общества (радикальное сведение людей к их функциональной роли) для революционного рывка во имя нечеловекоразмерной цели приводит не только к массовым жертвам, но и к надрыву. Особенно заметен он на примере постсталинского СССР, хотя и человеческая цена петровских преобразований была трагична.
Финалом «верховой революции», по мысли Шарова, оказывается кризис, происходящий из-за разрушения управленческой традиции (институтов). При этом сами «верховые революции» создают и укрепляют параллельную традицию. Писатель подчеркивает, что Петр I с интересом относился к опыту Ивана IV, и обе эти фигуры были значимы для Сталина. Стоит отметить, что все эти правители считаются «сильными лидерами», а Сталин и Петр I воспринимаются значительной частью общества как положительные фигуры. В российской культуре не были выработаны действенные антидоты от «верховых революций». Аналитическая работа Шарова создает для этого условия.
Переменчивость идей и вечность структуры
Идейные основания как «верховых революций», так и порождающих их отношений между властью и обществом могут меняться. В эссе «О „Записных книжках“ Андрея Платонова» писатель говорит о «переносе центра тяжести» с Бога на монарха, наделившего себя полномочиями Бога, и с православной веры — на защищающий ее народ (то, что избранный народ «считает правильным, объявляется угодным Богу»; впрочем, как мы знаем, воля народа спущена сверху прямиком от «наместника»). В «Между двух революций» Шаров пишет: «В результате распространение пределов Святой земли, официально всегда оставаясь в статусе средства, необходимого условия для вторичного прихода на землю Иисуса Христа, очень скоро сделалось самоцелью».
Это означает, что по мере развития Московского царства / Российской империи религиозная идейная база мутировала в имперскую, а народ оказался избранным уже не по религиозному, а по национальному принципу. Сталина едва ли можно было назвать «наместником Бога». Его «сакрализация» имела светские основания, хотя, конечно, воспроизводила религиозные модели. Идеологическая база Красной России в 1920-е (пусть бы и в трактовке Шарова, соединяющего большевизм с «Общим делом» Николая Федорова) и при зрелом сталинизме существенно отличалась от той, что служила основанием Российской империи.
То, что в одном из интервью Шаров называл «религиозной историей», из парадигмы которой Россия не может вырваться на протяжении веков, базируется не на идеях. Они меняются — порой до неузнаваемости — и не являются несущим элементом конструкции российской политической истории. Эту роль играет мировоззренческая и поведенческая структура отношений между властью и обществом, которая, несмотря на идеологические перемены, остается на редкость устойчивой. Внимание к историческим «самоповторам» в эссеистике Шарова убедительно это показывает. Более того, можно предположить, что успех той или иной идейной программы зависит от того, насколько она способна встроиться в имеющуюся структуру отношений.
Сама эта структура предполагает: 1) жесткую вертикаль, иерархичность и особенный, над-человеческий статус власти; 2) вытекающее отсюда субъект-объектное отношение власти к обществу; власть как главный автор; коллективизм сверху и унификация граждан; 3) абстрагирование конкретной «посюсторонней» реальности и наделение абстракций витальностью; нацеленность за пределы реальности; нечеловекоразмерные цели; 4) акцентирование борьбы в контексте как взаимодействия между людьми, так и по отношению к природной реальности; милитарная оптика.
Трансформация идей без трансформации структуры взаимоотношений между властью и обществом не ведет к существенным переменам. При этом структура, как видно, может функционировать и воспроизводиться сама, без полноценной идеи. В таком случае идеи приобретают значение «ширм», «фальшфасадов». Они защищают голую конструкцию властвования, скрывая ее от общества, и могут оперативно меняться при политической необходимости.
Статья написана на основе доклада, прочитанного автором на конференции «Не-роман с историей. Разнообразие жанров и направлений творчества Владимира Шарова».