Сам себе антипоэт
Пушкинский след в образцово графоманском тексте
Какие произведения следует считать шедеврами поэтической плохописи, по каким критериям их нужно отделять от массы других графоманских стихов, в чем секрет читательского удовольствия, получаемого от них, — все это старые и до сих пор не решенные вопросы. Между тем идеально бездарные, можно сказать хрестоматийные, образцы поэтической плохописи существуют. В одном из самых известных таких текстов Павел Рыбкин обнаружил пушкинский след: загадок плохописи это не решает, зато позволяет уточнить образ главного гения русской поэзии — если он в самом деле «наше всё», то просто обязан включать в себя собственную противоположность.
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Слитно или раздельно
Эти стихи давно зажили своей жизнью и настолько обособились от первоисточника, что уже в 1980-е годы их начали цитировать как слитный текст даже серьезные литературоведы. Владимир Марков, например, опубликовал их в виде двух следующих через запятую двустиший в статье «О русском „Чучеле совы“, или Можно ли получать удовольствие от плохих стихов» (1983).
И вот свершилось торжество:
Арестовали божество,
Повис Иуда на осине —
Сперва весь красный, после синий.
Владислав Ходасевич, который впервые привел эти выдающиеся строки в статье «Ниже нуля» (1936), говорил все-таки о двух разрозненных фрагментах некой поэмы об Иуде, причем в первом из них не было никаких знаков препинания и Божество писалось с заглавной буквы.
«Являлись бездарности и невежды, по-своему соответствовавшие Пушкиным и Лермонтовым… Я лично знаком был с неким Е.А.М., почтеннейшим человеком, директором „Северного“ страхового общества, действительным членом московского Литературно-Художественного Кружка, — автором поэмы об Иуде. Я положительно уверен, что это был настоящий гений, „да только с другой стороны“, ибо надо быть своего рода гением, чтобы о гефсиманской ночи сказать так кратко и выразительно, как сказал Е.А.М.:
И вот свершилось торжество
Арестовали Божество
Черты той же гениальности нельзя не заметить и в описании смерти Иуды:
Повис Иуда на осине —
Сперва весь красный, после синий».
Разумеется, В. Марков был прекрасно знаком со статьей В. Ходасевича, однако же сделал то, что сделал, не замечая, похоже, что Иуда при слиянии фрагментов уже чисто синтаксически, за счет сочинительной, а не противительной или причинно-следственной связи, сам превратился в Божество, поскольку в заявленной логике следовало бы, конечно, написать что-то вроде:
И вдруг свершилось торжество,
Арестовали Божество.
И в полдень, в день недели пятый,
Повис на дереве Распятый.
Трудно сказать, с чем мы имеем дело, — с невнимательностью исследователя или с его подсознательным следованием уже сложившейся за полвека традиции восприятия фрагментов как слитного, образцово графоманского текста. В любом случае слияние делает этот текст не просто нелепым, но принципиально амбивалентным, оксюморонным, раз уж Иуда и арестованное Божество становятся взаимообратимыми фигурами. И поскольку введенное В. Ходасевичем понятие «гения ниже нуля тоже оксюморон, читатель должен быть готов и к иным обращениям. Он также вправе предполагать, что к созданию предъявленного ему «шедевра от противного» причастен как минимум сам предъявитель, а там, глядишь, и кто-нибудь из хрестоматийных гениев отечественной поэзии подтянется. Первым, конечно, подтягивается Пушкин, тем более что своеобразное соответствие ему наиболее «гениальных» графоманов заявлено автором с самого начала (см. выше). Однако сперва разберемся с Е.А.М.
Работа в соавторстве
Собственно, тайна инициалов уже 10 лет как раскрыта Александром Соболевым в статье «„Повис Иуда на осине“: история одной строки». За Е.А.М. скрывался некто Евгений Александрович Морозов, который действительного был секретарем страхового общества и членом литературно-художественного кружка, указанных В. Ходасевичем. Никакой поэмы об Иуде он не писал, зато выпустил книгу «Стихотворения» (1892), где в числе прочих обнаружился текст «Когда Христа Иуда предал…», а в нем следующие строки:
И наконец он изнемог
И дальше вынести не мог, —
И скоро труп Иуды синий
Висел на трепетной осине.
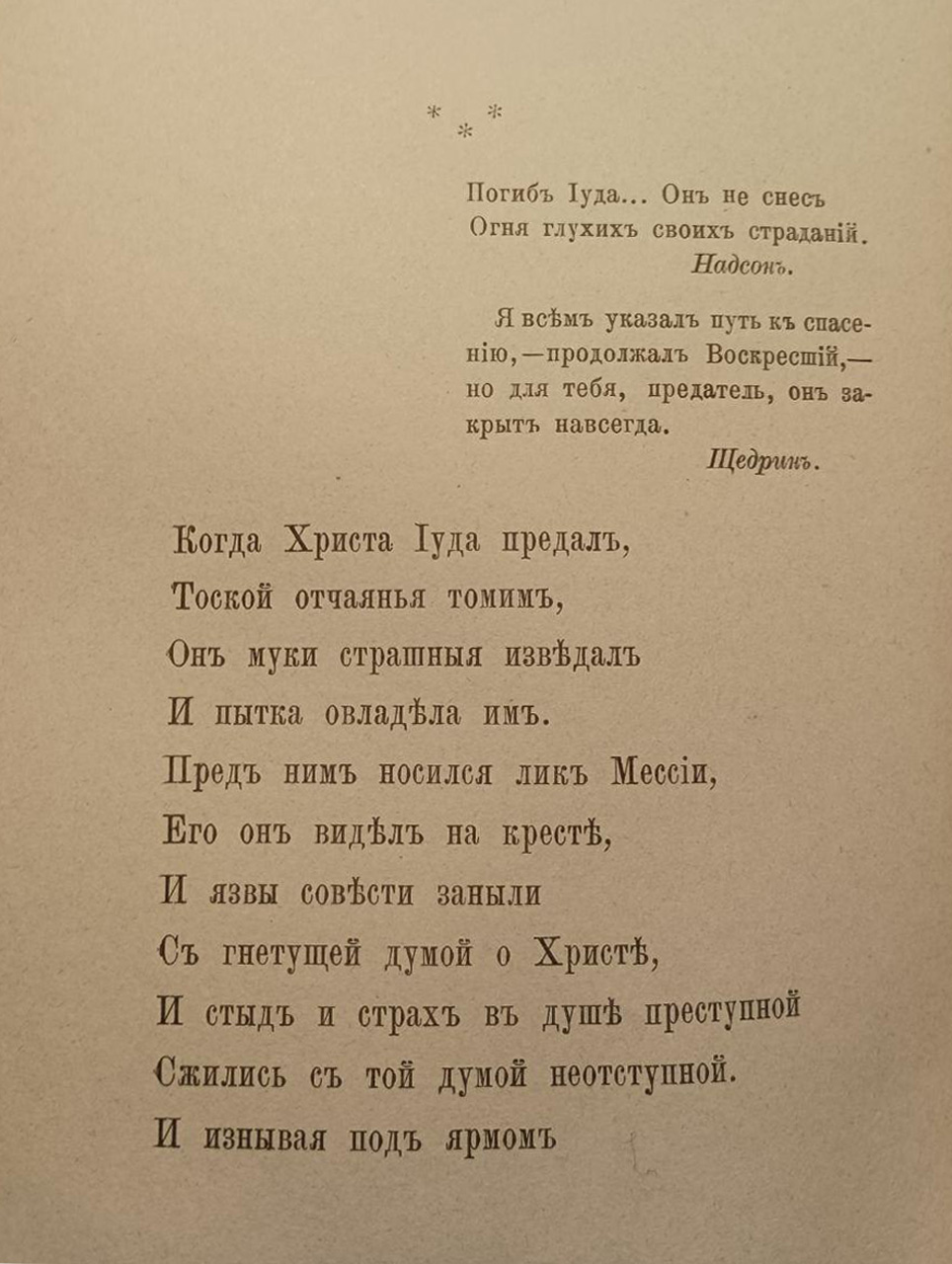
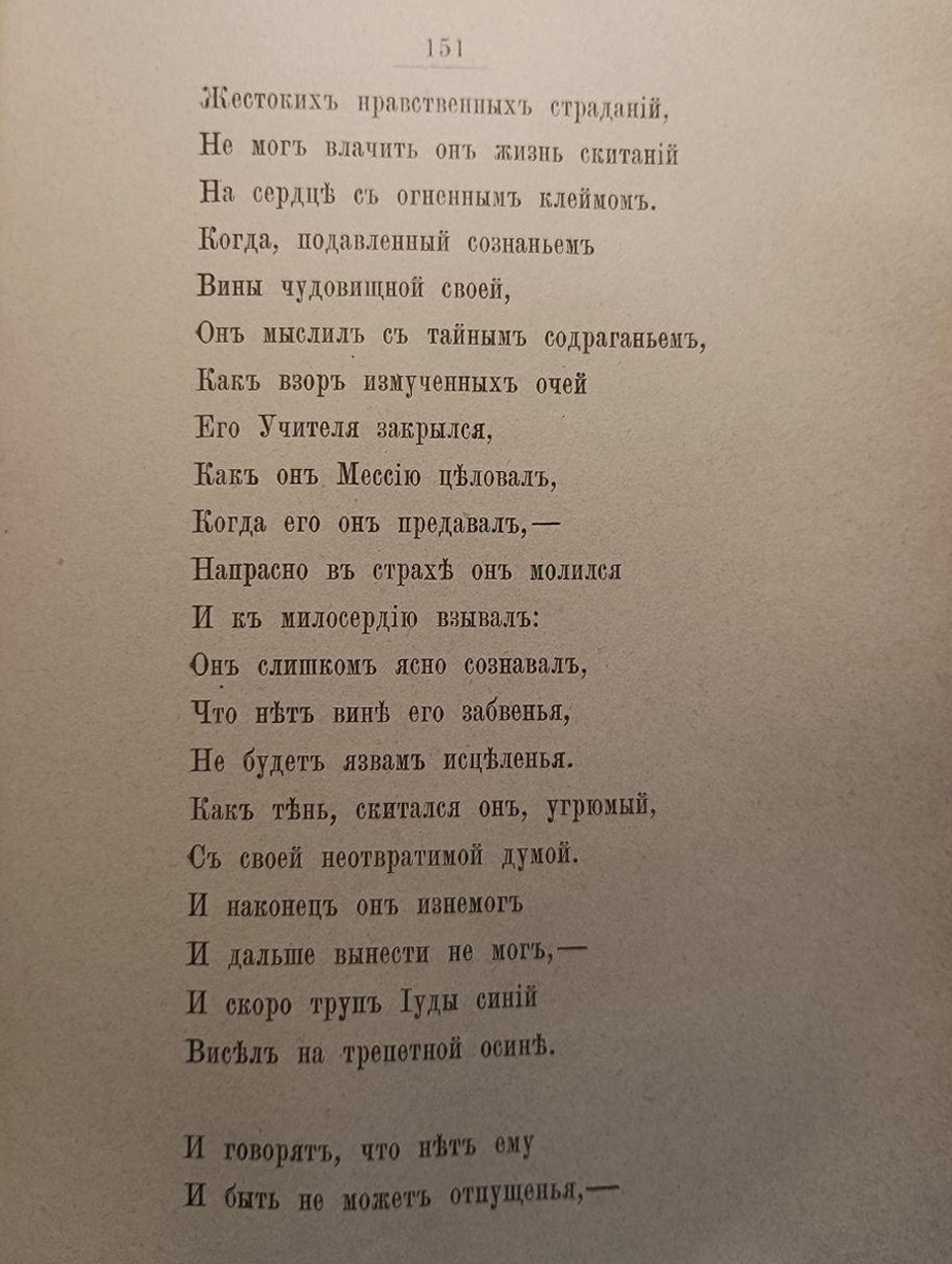
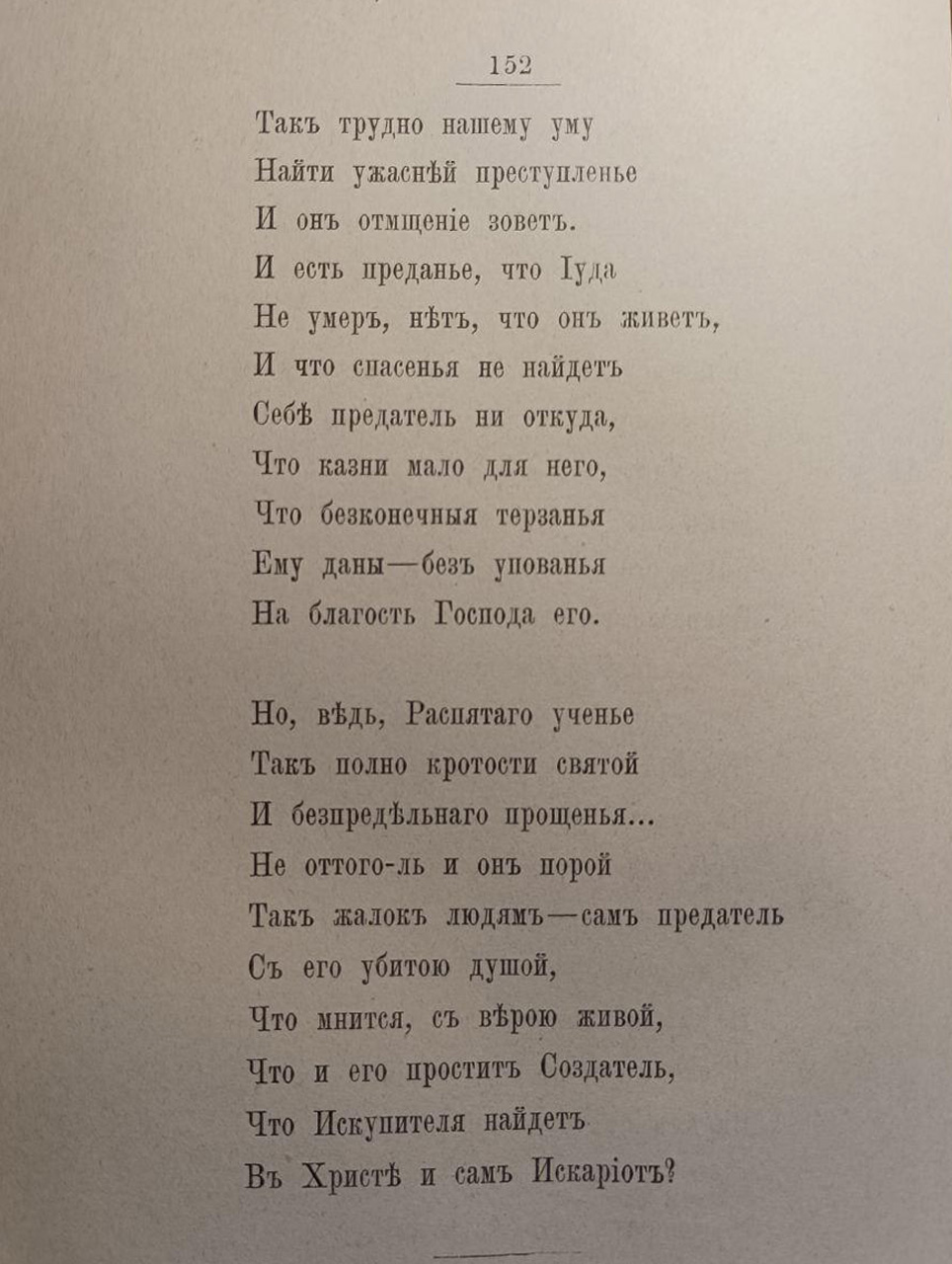
Отсутствие названия автор компенсировал сразу двумя эпиграфами — из стихотворения Семена Надсона «Иуда» (1879) и сказки-предания М. Е. Салтыкова-Щедрина «Христова ночь» (1886). Первый звучит так: «Погиб Иуда… Он не снес / Огня глухих своих страданий», второй: «Я всем указал путь к спасению, — продолжал Воскресший, — но для тебя, предатель, он закрыт навсегда».
Любой эпиграф — это сознательное подключение к традиции, а стихи Е. Морозова — еще и прямой перепев надсоновского «Иуды». Знал или нет об этих стихах М. Салтыкова-Щедрин, уже не важно, поскольку контекстуально он тоже подключается к традиции: оставив в стороне гибель предателя от мук совести и стыда, он развивает другой сюжетный мотив — обреченности на скитания, который у Надсона заявлен так:
Беги, предатель, от людей
И знай: нигде душе твоей
Ты не найдешь успокоенья:
Где б ни был ты, везде с тобой
Пойдет твой призрак роковой
Залогом мук и осужденья.
У М. Салтыкова-Щедрина Христос закрывает «путь к спасению» через смерть: тот обречен скитаться по земле вечно. И чтобы осуществить это свое проклятие, Сын Человеческий воскрешает уже повесившегося предателя. Следует обратить внимание на развернутое описание процесса разложения, с весьма конкретными указаниями на некоторые фазы (далее курсив наш. — П. Р.): «… Восток заалел, и в редеющем сумраке леса выступила безобразная человеческая масса, качающаяся на осине. Голова повесившегося, почти оторванная от туловища, свесилась книзу; во́роны уже выклевали у нее глаза и выели щеки. Самое туловище было по местам обнажено от одежд и, зияя гнойными ранами, размахивало по ветру руками. Стая хищных птиц кружилась над телом, а более смелые бесстрашно продолжали дело разрушения».
Дело происходило в пасхальную ночь. Воскресший Христос приказывает Иуде: «Сойди с древа, предатель!.. да восстановится позорный твой облик в том же виде, в каком он был в ту минуту, когда ты лобзал предаваемого тобой. Живи!»
Восстановление плоти и одежд уже не удостаивается описания. Предатель просто сходит с древа и сразу же (!) начинает молить о смерти. Мольбы оказались напрасны. Пришлось встать, взять в руки посох, возникший из сука той самой гибельной осины, и, как некий Каин или Вечный Жид, отправиться в бесконечное скорбное странствие. «И ходит он доднесь по земле, рассеевая смуту, измену и рознь», — такими словами заканчивается сказка.
Суть приема
Уже истории одного двустишия про синего Иуду на осине Соболеву хватило, чтобы исключить единоличное авторство Е. Морозова и сделать вывод о сознательном конструировании первоисточника: «Вероятно, дело обстояло так: Ходасевичу каким-то путем в недобрый час попала в руки книга Морозова; запомнив и слегка выворотив (чтобы стало смешнее) две строчки, он сделал их частью кружкового фольклора. В принципе, это прием, обычный для поэтики позднего Ходасевича-мемуариста: взять выразительную деталь действительной истории и деформировать ее ради силы художественного впечатления…»
Если В. Ходасевич действительно читал стихи об Иуде в книге Е. Морозова, то он просто не мог пройти мимо эпиграфов. Почему их оставил без внимания Соболев, мы не знаем, но очевидно, что они сами по себе подводят к мысли о коллективной работе в русле традиции, а заодно помогают понять, какую именно деформацию первоисточника произвел поэт.
В первом эпиграфе мы видим огонь глухих страданий. Логично предположить, что он должен был гореть и на лице предателя — хотя бы в виде краски стыда за содеянное. Вполне естественно поэтому, что «сперва», то есть в момент повешения, Иуда был «весь красный». Потом он с той же естественностью остыл и посинел. У Е. Морозова этот процесс никак не эксплицирован, хотя есть и стыд, и даже его огненное клеймо (правда, на сердце). К тому же, как и у Надсона, его Иуде всюду мерещится лицо Иисуса на кресте, а у Надсона вся история исходно начинается в багровых тонах: «Христос молился… Пот кровавый / С чела поникшего бежал».
Слово «труп» в поэтической речи тянет за собой эпитет «хладный» (ср. у А. Пушкина в «Медного всаднике»: «Нашли безумца моего, / И рядом хладный труп его»). А «хладный» — значит, «синий». В. Кюхельбекер, между прочим, безусловный гений ниже нуля как минимум для его лицейского окружения, в 1819 году написал послание «К Пушкину из его нетопленной комнаты». Там есть такие забавные слова:
Здесь не тепло; но мысль о друге,
О страстном, пламенном певце,
Меня ужели не согреет?
Ужели жар не проалеет
На голубом моем лице?
Последние два стиха В. Ходасевич вполне мог бы включить в свою статью. Даже если поэт о них не знал, они прекрасно иллюстрируют суть приема, использованного в отношении оригинала. Е. Морозов был совершенно прав, говоря о синем, то есть хладном трупе Иуды: этот цвет возникает сам собой, по умолчанию и в умолчании остается, потому что иначе вышло бы нелепо и смешно. Но именно «чтобы стало смешнее», В. Ходасевич и решил дать развернутую экспликацию процесса с четким указанием на его временные и температурные фазы. Собственно, в этом и состоял прием, возможно отсылающий в том числе и к щедринскому описанию телесного распада Иуды: оно тоже вполне нелепо в своей развернутости, но воспринимается без улыбки из-за обилия «ужасающих» подробностей.
Но главное, что и у М. Салтыкова-Щедрина, и у В. Кюхельбекера на голубом лице предателя в конечном счете проалел жар возрождающейся жизни, пусть даже между «воскрес» и «согрелся» — дистанция огромного размера. При желании в словах «сперва весь красный, после синий» можно усмотреть скрытую полемику В. Ходасевича с обоими авторами и принципиальный отказ (от лица как бы наивного Е. А. Морозова) воскрешать предателя, и тонкое указание (уже от собственного лица) на пушкинский след в первом двустишии, потому что, как мы увидим ниже, Пушкин в одном из своих стихотворений Иуду все-таки воскресил.
Как бы то ни было, примененный В. Ходасевичем прием усиливает амбивалентное звучание текста. С одной стороны, он превращает автора (Е.А.М.) в законченного графомана, который разъясняет читателю всяческие «сперва» и «потом», не слишком уместные в поэтической речи вообще, а в выбранном контексте — особенно. С другой стороны, сама нарочитость в проговаривании очевидного внушает подозрения и вполне может намекать как раз на неочевидные подтексты — тот самый отказ от идеи воскрешения Иуды и акцентированное утверждение именно привычного, линейного порядка смены цветов — от жизни к смерти, от красного (крови, тепла) к синему (холоду). Эта двойственность, по нашей гипотезе, как раз и готовит читателя к появлению пушкинского следа в идеально графоманском тексте.
«Мирская власть»
Установив первоисточник стиха об Иуде, А. Соболев сообщает: «Непроясненным остается происхождение остальных двух строк (про торжество и божество) — я бы, пожалуй, рискнул включить их в раздел dubia полного собраний сочинений Ходасевича, которое что-то застопорилось на втором томе и несколько лет уже не подает признаков жизни».
ПСС и сегодня не подает признаков жизни, но точно не стоит ждать еще 10 лет, чтобы попытаться выяснить происхождение строк про торжество и божество. Кажется, это и раньше было сделать легче, чем установить личность Е.А.М.
Контекстуально имя Пушкина у нас уже возникало в связи с «хладным трупом» Евгения и стихотворным посланием В. Кюхельбекера с его фантастически нелепым «голубым лицом». В первом случае мы имеем дело с расхожим клише, а во втором, наоборот, с достаточно редким контекстом. Но ведь В. Ходасевич был не просто поэт-пукшинианец, но еще и ученый-пушкинист. И хотя в книге Ирины Сурат «Пушкинист Владислав Ходасевич», как и в самих его работах о Пушкине, нет ничего о нашем сюжете, представляется крайне маловероятным, чтобы Владислав Фелицианович мог не знать пушкинского Каменноостровского цикла (1836). А именно в этом цикле есть стихотворение «Мирская власть», которое начинается такими словами:
Когда великое свершалось торжество
И в муках на кресте кончалось божество…
Кажется, до сих пор никому не приходило в голову связать образцово бездарное стихотворение Е. Морозова с этими пушкинскими строками, а между тем они и сами по себе довольно смешны, причем не только и не столько потому, что сегодняшнему читателю хочется прежде всего отбросить возвратный суффикс в глаголе «кончалось». Никаких скабрезных оттенков смысла ни в XIX, ни в начале ХХ века здесь никто еще не различал. А вот оттенок просторечный определенно считывался и мог отсылать, например, к пословице: «С кем венчаться, с тем, дай бог, и кончаться». Применительно к Божеству он был вполне уместен в стихотворении, чей пафос — гневное недоумение по поводу часовых, выставленных у распятия: уж не затем ли они тут стоят, что «пускать не велено сюда простой народ», который, видите ли, может оскорбить «Того, Чья казнь весь род Адамов искупила» и кто сам был из плотницкой семьи?
Однако просторечие неизбежно придает комическую окраску любым фразам и сюжетам. Авторская улыбка угадывается и в более ранних стихах А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный…» (1829):
Между тем как он кончался,
Дух лукавый подоспел,
Душу рыцаря сбирался
Бес тащить уж в свой предел:
Он-де богу не молился,
Он не ведал-де поста,
Не путем-де волочился
Он за Матушкой Христа…
Стих «Между тем как он кончался» заметно снижает пафос умирания, а до этого вообще-то было сказано: «Без причастья умер он». Выходит, что теперь действие отматывается назад, от смерти как свершившегося факта (синего) к смерти как процессу (посинению). Далее возникает бес, в контексте тоже фигура комичная и, надо же, для передачи его речи используется просторечная частица «де». Заступничество Пречистой за «паладина Своего» если и возвращает тексту прежний «высокий лад», то опять-таки скорее в его простонародном варианте: на первый план все-таки выходит не романтическое, книжное служение Прекрасной Даме, а именно теплая вера в защиту Богородицы (плоти и крови Отца паладин все-таки не причастился).
Стихи Е. Морозова написаны четырехстопным ямбом, «Мирская власть» — шестистопным. Но если разделить два начальных стиха у А. Пушкина по цезурам и взять только вторые полустишия, то получится снова нечто весьма комичное:
Свершалось торжество:
Кончалось божество…
Дело, конечно, не в том, что мы отбросили эпитет «великое» и муки на кресте, а в самой просодии: усеченная «редакция» начальных строк выявляет, вдобавок к просторечному, еще и явственно каламбурное их звучание, а уж каламбуры в описываемой ситуации как-то особенно нелепы (столь же нелепы они были бы и в случае, если бы божество, по пословице, венчалось).
У Пушкина есть и другие стихи с рифмой «торжество — божество», например послание к «Чаадаеву С морского берега Тавриды» (1824):
На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось.
Здесь, как видим, повторяется еще и весьма знаменательный евангельский глагол «свершилось». В «Руслане и Людмиле», в рассказе Финна о преображении Наины в 70-летнюю старуху, сгорающую от любви, он тоже встречается, и снова в комическом контексте:
Но вот ужасно: колдовство
Вполне свершилось по несчастью.
Мое седое божество
Ко мне пылало новой страстью.
В беловой рукописи «Евгения Онегина» после XXIV строфы третьей главы следовали еще две, которые при издании были сняты. Вторая, о девах без упрека, заканчивалась так:
А завтра легкий суд молвы
Припишет модному герою
Победы новой торжество:
Любви вас ищет божество.
Примеров можно привести и больше, скажем «Ее глаза» (1828), но вообще-то пушкинский след было очень трудно не разглядеть уже в стихах Е. Морозова об Иуде. Напомним, что изображению самоубийства предшествовало такое описание:
И наконец он изнемог
И дальше вынести не мог…
Ну разве это не отсылка к хрестоматийному началу первой главы «Онегина», вплоть до корневой тавтологии в рифме («занемог — не мог»)? Вообще, в короткой заметке «Ниже нуля» имя Пушкина упомянуто в той или иной форме 13 (!) раз, в том числе сказано, что поэт «вообще имеет несчастье привлекать сочувственное внимание» графоманов. Перлом своей коллекции В. Ходасевич называет книгу «История мира в стихах» (1927) некоего Виктора Колосовского. Автор до такой степени проникся духом Пушкина, что в конце концов признал себя его перевоплощением и даже подписался на обложке двойным именем. Все это не может служить доказательством, что Ходасевич сконструировал образцово бездарные стихи на основе не только опуса Е. А. Морозова, но и «Мирской власти» Пушкина, но для гипотезы некоторые основания здесь есть, особенно если вспомнить, что в Каменноостровском цикле этому стихотворению предшествует «(Подражание италиянскому)», где говорится об Иуде. Между прочим, оба текста, как и текст В. Ходасевича (у Е. Морозова этого не было), написаны двустишиями.
(«Подражание италиянскому»)
Как с древа сорвался предатель ученик,
Диявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны гладной…
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожег уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.
За 6 лет до статьи В. Ходасевича Б. В. Томашевский доказал, что в «Подражании…» мы имеем дело с вольным переложением сонета Франческо Джианни (Sopra Iuda) по французскому переводу Антони Дешана (Supplice de Judas dans l’enfer). Приведем подстрочник второго сонета (цит. по работе Сергея Давыдова «„Подражание италиянскому“ и его источники»):
Когда Иуда, утолив свое отвратительное бешенство,
наконец сорвался с одинокого дерева,
страшный демон-искуситель
немедленно бросился на него.
Схватив его за волосы, он на огненных крыльях
поднял на воздух окаянный труп,
и, опустившись на дно вечного ада,
он, трепеща, насадил его на железный трезубец.
Мясо Искариота с треском загорелось,
костный мозг жарился и кости шипели.
Тут сатана заключил проклятого в свои объятия
и, взглянув на него с улыбкой на лице,
спокойно, дымящимися устами
вернул ему поцелуй, данный предателем Христу.
Сюжет у всех поэтов одинаков: сатана возвращает Иуде его предательский поцелуй. Но как тонко отметил С. Давыдов, благодаря появлению рогатых бесенят пушкинский текст становится более гротескным, как более гротескным благодаря одному-единственному бесу стало некогда стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный…». Кроме того, у нашего поэта складывается некая адская антитроица: дьявол, бесенята, сатана. «Самое интересное, — пишет исследователь, — пушкинский дьявол не причиняет физической боли, его роль духовного порядка: он, не более не менее, как воскрешает Иуду». То есть принимает роль Бога! «„(Подражание италиянскому)“ построено полностью на приеме оксюморона, с помощью которого Пушкин драматизирует столкновение адской и божественной сил, — продолжает С. Давыдов. — Самоубийство Иуды, его воскресение, низвержение в преисподнюю повторяют в перевернутом виде таинство распятия, воскресения и вознесения Христа <…> В этом смысле Пушкин следует учению православной церкви об Антихристе, лже-Христе, который действует от имени Христа. <…> Возможно, что оксюморон божественного и сатанинского основан на предании, что сатана есть падший ангел, который возжаждал творения… Но в сатанинском творении все вырождается в свою противоположность: поцелуй становится средством предательства, вознесение оборачивается низвержением, жизнь смертью, награда наказаньем, любовь ненавистью».
Исследователь показывает, что оксюморон пронизывает все уровни текста, от сюжетного до лексического, и что словосочетания вроде «предатель-ученик», «труп живой», «проклятый владыка», «лобзанием прожег» несут в себе свое собственное отрицание.
В контексте нашего разговора центральный оксюморон — это образцово бездарный текст, можно сказать «литпамятник», сконструированный в том числе на основе текстов первого нашего поэта из того самого Каменноостровского цикла (предсмертного и пасхального и одновременно предсмертного), к которому примыкает и «Памятник».
Доказательство от противного: «Свершилось!»
Пушкин, солнце русской поэзии, и сам превратился в божество. Дмитрий Быков (признан властями РФ иноагентом) даже выступил с лекцией «Пушкин как наш Христос». Жаль, что в таком контексте не обозначено, какое значение в произведениях Александра Сергеевича, а заодно и в поэтической пушкиниане занимает слово «свершилось» — одно из семи слов, произнесенных Христом перед смертью: «Иисус, отпив вина, сказал: „Свершилось!“ И, склонив голову, предал дух Богу» (Евангелие от Иоанна, 19:30).
Пушкин употреблял его и в шутку, например в «Руслане и Людмиле» (см. выше), и всерьез, скажем в стихах, посвященных смерти Наполеона:
Чудесный жребий совершился:
Угас великий человек.
В стихотворении «Недвижный страж дремал на царственном пороге…» (1824) те же слова произносит Александр I — правда, об отречении Наполеона, а не о его смерти; умерла в этом произведении европейская свобода: «О грозные витии, / Целуйте жезл России / и вас поправшую железную стопу». В «Клеопатре» (1828) евангельское слово возникает в разговоре о любви, ради которой жертвуют жизнью:
Свершилось: куплены три ночи…
И ложе смерти их зовет.
Тремя годами ранее оно возникало и в другом любовном стихотворении, «Сожженное письмо» (1825). Тогда еще речь шла все-таки о расставании, а не смерти как таковой, но интересно, что мы снова видим и двустишия, и повторы, и даже внутреннюю глагольную рифму:
Свершилось! Темный свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют… Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди…
В стихотворениях на смерть Пушкина, хлынувших потоком в 1837 году, слово «свершилось» встречается в 8 из 77 текстов. А в 1830-м, когда состоялась помолвка поэта и Н. Гончаровой, египтолог И. А. Гульянов отправил жениху анонимное письмо со стихами «Олимпа девы встрепенулись…», где были в том числе такие слова:
Свершилось таинство природы!
Исчезли прелести свободы,
Погас изменный пыл крови,
Подруга в сердце воцарится,
И новым светом озарится
Певец мечтаний и любви.
Разумеется, Гульянов не имел в виду никаких роковых последствий для поэта, связанных с предстоящим браком. Но свершилось все, как в пушкинской «Клеопатре».
Все эти тексты собраны в антологии «Пушкин в стихах современников. 1813–1837» (2024), составленной М. В. Строгановым, и если читатель к ним обратится, то сразу увидит: их качество вполне достойно «гениев ниже нуля», притом что евангельский контекст местами вполне различим. Некий безымянный гвардейский офицер и вовсе сравнивает пушкинские стихи со святой проповедью, а его Дантес в чем-то предвосхищает Иуду сразу и С. Надсона, и М. Салтыкова-Щедрина, хотя те (равно как и Е. Морозов с В. Ходасевичем) никак не могли знать этого опуса, впервые опубликованного В. Вацуро в 1976 году:
Беги, злодей! Терзай себя!
Здесь не взведут тебя на плаху!
Земля чуждается тебя —
И твоего не примет праха!
Когда Пушкин шутя использовал слова Христа на Голгофе в «Руслане и Людмиле», теоретически он мог следовать давней европейской традиции — латинскую версию этих слов, Consummatum est, иронически обыграл еще Франсуа Рабле в «Третьей книге героических деяний и речений доброго Пантагрюэля» (1546). В реальной жизни вышло так, что Пушкин и сам стал мучеником. «Свершалось торжество: кончалось божество» — так вполне можно сказать уже о последних днях поэта, когда весь Петербург дежурил у его квартиры на Мойке, 12, а графоманские стихи на смерть в полной мере реализовали комизм этого трагического «Свершилось!»
Если В. Ходасевич действительно имел в виду «Мирскую власть», конструируя фрагмент морозовской поэмы об Иуде, то это пушкинское стихотворение может прояснить еще и причины замены глагола «кончалось» на «арестовали». Мы уже говорили о гневном недоумении поэта, возмущенного видом «поставленных на место жен святых / В ружье и кивере двух грозных часовых». Но вообще-то стража была и у Голгофы, и у гроба Господня. Сходным образом и во время похорон самого Пушкина город наводнили жандармы и агенты охранки в штатском, а его гроб в Святые Горы сопровождал жандармский капитан. Все это очень похоже на содержание под арестом. В конце концов, статья «Ниже нуля» появилась сто лет спустя после Каменноостровского цикла, в парижской монархической газете «Возрождение», в выпуске от 23 января, то есть накануне 99-й годовщины смерти Пушкина. Впереди светило столетия. И это было время, когда за право наследовать первому национальному поэту шла настоящая битва между белой эмиграцией и СССР, как раз вступившим в эпоху Большого террора. «Возрождение» занимало очень жесткую позицию в отношении Советской России, чьи претензии на Пушкина вполне могли рассматриваться как желание арестовать Божество и держать его у себя под стражей. Это, конечно, не более чем допущение, да еще и в виде метафоры, но исторический контекст был вполне уместным для указанной глагольной метаморфозы. Куда более важный литературный контекст — а именно соседство «Мирской власти» и «(Подражания италиянскому)», — на наш взгляд, переводит допущение в ранг гипотезы.
Конечно, Пушкина можно притянуть при желании к любой теме, но его предполагаемый след в эталонном графоманском тексте крайне важен. Илья Виницкий в монографии «Граф Сардинский. Дмитрий Хвостов и русская культура» (2017) придал своему герою национальный статус антипоэта, назвав его комическим двойником Пушкина. Спору нет, Александр Сергеевич вместе с ближайшим окружением старательно взращивали этого двойника. Но недаром же П. Вяземский писал Пушкину в 1825 году: «Ты сам Хвостова подражатель, / Красот его любостяжатель…» Поэт не был бы «нашим всем», если бы не мог взрастить собственную противоположность в самом себе. Сознательно или нет, В. Ходасевич реализовал этот потенциал. Он сконструировал не просто замечательно бездарный текст, такого рода удачи случались у него и раньше, взять хотя бы стихотворение «Ниничек глаза таращит…» (1925). На сей раз поэт сумел привести еще одно, весьма оригинальное доказательство и в пользу тезиса А. Григорьева, и в пользу неисповедимости путей поэзии. Где божество, там и торжество.