«Русскую эмигрантскую литературу на Западе долгое время считали малоинтересной субкультурой»
Интервью с филологом Марией Рубинс
— Расскажите, как вы начали заниматься русской эмигрантской литературой.
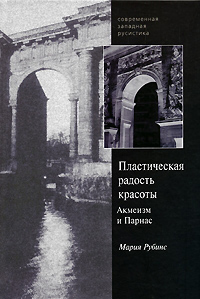 — Еще со студенческих времен я интересовалась межкультурными контактами и диалогами. Когда я училась на филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, то писала диплом о ранних переводах Бодлера на русский язык. Главным образом меня интересовало, как его стихи прочитывались до Серебряного века и как Бодлера трансформировали русские модернисты: насколько созданный ими образ поэта отличался от того, что сложился во французской литературе? Диссертация, которую я защищала уже в Университете Браун, также была посвящена компаративистским сюжетам. В своей первой книге я писала об экфрасисе — словесном описании произведений изобразительного искусства, а моими главными авторами были французские поэты-парнасцы и акмеисты. В каком-то смысле логично, что в конечном счете я пришла к вопросам, связанным с эмигрантской литературой и диаспорой. Я считаю, что в контексте диаспоры авторы и их тексты могут вступать в транснациональные диалоги о литературе, эстетике и человеческом опыте, выходить за пределы единого национального контекста и канона.
— Еще со студенческих времен я интересовалась межкультурными контактами и диалогами. Когда я училась на филологическом факультете Санкт-Петербургского университета, то писала диплом о ранних переводах Бодлера на русский язык. Главным образом меня интересовало, как его стихи прочитывались до Серебряного века и как Бодлера трансформировали русские модернисты: насколько созданный ими образ поэта отличался от того, что сложился во французской литературе? Диссертация, которую я защищала уже в Университете Браун, также была посвящена компаративистским сюжетам. В своей первой книге я писала об экфрасисе — словесном описании произведений изобразительного искусства, а моими главными авторами были французские поэты-парнасцы и акмеисты. В каком-то смысле логично, что в конечном счете я пришла к вопросам, связанным с эмигрантской литературой и диаспорой. Я считаю, что в контексте диаспоры авторы и их тексты могут вступать в транснациональные диалоги о литературе, эстетике и человеческом опыте, выходить за пределы единого национального контекста и канона.
— Вплоть до последних десятилетий XX века русская эмигрантская литература не привлекала широкого внимания исследователей. К тому моменту, как вы начали заниматься этими сюжетами, ситуация изменилась?
— В начале XXI века эмигрантская тема уже активно обсуждалась в академических кругах как в России, так и на Западе. Но вы правы, в течение XX века эмигрантские авторы (за исключением Набокова, Бродского и некоторых других фигур) не вызывали большого интереса у западных специалистов по русской литературе. В основном они занимались или классикой, или советской литературой. Русскую эмигрантскую литературу на Западе долгое время считали малоинтересной субкультурой. Только после того, как во время перестройки и в 1990-е годы эмигрантские авторы вошли в России в культурный обиход, их начали активно изучать и публиковать на Западе. Появилось даже отдельное направление — эмигрантология.
Таким образом, мы наблюдаем очень интересную циркуляцию текстов: они были написаны за рубежом, попали в Россию, стали там популярны, а затем вернулись туда, где были созданы.
— В начале 1920-х годов возникло сразу несколько центров русской эмиграции (Париж, Берлин, Прага и другие). В книге «Русский Монпарнас» вы обращаетесь к литературе парижской диаспоры. Почему именно она привлекла ваше внимание?
— Это связано с несколькими причинами. Во-первых, я давно занималась русско-французскими литературными связями и французской литературой межвоенного периода. Во-вторых, в 1920–1930-е годы Париж был столицей русского зарубежья. Конечно, были и другие важные центры эмиграции (Харбин, Шанхай, Берлин), но там интенсивная русская культурная жизнь длилась не столь долго. Например, к середине 1920-х годов большинство русских авторов и издателей покинули Берлин и перебрались во Францию. Дольше всех в Берлине задержался Набоков. Именно в Париже выходили основные эмигрантские издания: «Современные записки», «Числа», «Русские записки» и другие. Многие авторы, жившие на периферии (например, в Харбине или Шанхае), почитали за честь быть напечатанными в парижском журнале и получить признание парижского культурного круга.
Кроме того, 1920–1930-е годы — безумно интересный период в истории Франции. Там зародился первый поистине глобальный стиль — ар-деко, который повлиял не только на изобразительное искусство, но и на все сферы жизни и социально-культурные практики, в том числе и на литературу. Мне кажется, что это был последний всплеск великой французской культуры, символический конец которой совпал с капитуляцией в 1940 году. По моему мнению, после Второй мировой войны Париж перестал быть интеллектуальной столицей мира.
— В вышедшем недавно под вашей редакцией сборнике статей вы используете понятие диаспоры применительно к русским писателям, живущим вне России. Какой смысл вы вкладываете в него?
— Слово «диаспора» используется уже несколько тысячелетий, у него очень много значений. В переводе с греческого оно означает одновременно «рассеяние» и «осеменение». В традиционном понимании диаспора — это некое сообщество людей, отличающихся по своему происхождению от коренного населения той страны, где они проживают, и сохраняющее культурные и лингвистические связи с родиной. Как правило, диаспоры обладают определенной инфраструктурой, которая позволяет поддерживать обособленность, культивировать историческую память, сохранять язык, обычаи и так далее. После революции 1917 года такие сообщества русских эмигрантов образовались по всему свету. Даже в Северной Африке были небольшие очаги русской диаспоры.
В последние десятилетия слово диаспора стало приобретать более широкое толкование в научном контексте. Лет тридцать назад возникло такое направление, как диаспоральные исследования. Сейчас диаспору трактуют как определенную позицию, парадигму восприятия мира и отражения антропологического опыта. Многие исследователи даже говорят, что в последние десятилетия мы живем в условиях всеобщей диаспоризации. То есть культурные практики, которые раньше были характерны для традиционных диаспор (людей, живущих вне своего исконного культурного и национального пространства), стали типичными для большинства людей или, по крайней мере, для тех, кто занимается творчеством.
Поэтому в сборнике «Век диаспоры» мы попытались дать свои собственные рабочие определения диаспоры и создать инструментарий для анализа экстерриториальных текстов. Диаспора в данном случае — это определенный модус создания и интерпретации произведений, созданных вне метрополии, на пересечении разных культурных и идеологических трендов. Автор, который принадлежит к диаспоре, получает возможность выйти за пределы привычных представлений о мире, собственной стране, культуре, каноне и включиться в более глобальные дискуссии. Конечно, не каждый автор-эмигрант пользуется такой возможностью. Многие предпочитали сидеть за высокой стеной, как Солженицын в Вермонте, и интересоваться исключительно своей национальной повесткой. Мы же говорим о текстах, в которых наиболее ярко отражена транснациональная и гибридная позиция.
— В упомянутом сборнике вы пишете, что «диаспора» кажется вам более удачным термином, чем «эмиграция» и «изгнание», так как он лишен негативного оттенка.
— Очень часто все эти три понятия используются в качестве синонимов. Сами эмигранты несколько десятилетий не пользовались понятием диаспоры и говорили о своем состоянии как об эмиграции или изгнании. Эмиграция — слово латинского происхождения, означающее «уход» или «выход» за пределы чего-то. В данном случае — за пределы национального государства. Английское слово exile имеет схожую этимологию. Получается, что главная точка отсчета для эмигранта — это страна его происхождения.
Очень часто эмигрантское творчество окрашено ностальгией, пассеизмом, ретроспекцией. Взгляд обращен на драматический момент изгнания на чужбину. Все эти черты культивировались в русской эмигрантской литературе. Но если люди долго находятся за пределами своего национального пространства, они начинают адаптироваться и выстраивать жизнь в новых условиях. Поэтому слово «диаспора» кажется мне более нейтральным. Оно одновременно указывает на статус этих людей как пришельцев и в то же время говорит об их достаточно устойчивом положении в новом обществе. Интересны ведь не только утраты, связанные с эмиграцией, но и потенциал такого драматичного положения для художественного творчества.
Все-таки на протяжении XX века государственные границы были гораздо более непроницаемыми, чем сейчас (если не брать в расчет период пандемии). В условиях железного занавеса было трудно наладить нормальную циркуляцию информации между странами и политическими лагерями. Автор, который выезжал из Советского Союза и попадал в эмиграцию, наконец получал возможность понять, какие же темы сейчас актуальны за рубежом в области культуры, идеологии, эстетики, а порой и включиться в эти интеллектуальные дискуссии.
Бродский — идеальный пример человека, воспользовавшегося тем шансом, который дала ему эмиграция. Он был окружен такими людьми, как Уистен Оден, Стивен Спендер, Сьюзен Зонтаг и быстро стал частью западного интеллектуального сообщества.
— Когда вы говорите о выходе за пределы национального контекста, я сразу вспоминаю героев вашей книги «Русский Монпарнас» — например, Бориса Поплавского, в творчестве которого заметно существенное влияние французской литературы. Недавно перелистывал «Аполлона Безобразова» и обратил внимание, что почти все эпиграфы в этом романе — из французских произведений, да и по поэзии это хорошо видно. Но возникает вопрос: литераторы вроде Поплавского интересовали иностранную публику?
 — За пределами эмигрантских кругов о них практически никто ничего не знал. Во Франции в 1930-е годы больше интересовались советской литературой и развивали культурные связи с СССР.
— За пределами эмигрантских кругов о них практически никто ничего не знал. Во Франции в 1930-е годы больше интересовались советской литературой и развивали культурные связи с СССР.
Приведу в пример Бунина. В 1933 году он получил Нобелевскую премию (претендентом с советской стороны, кстати, был Горький). Бунин добился определенной известности, его произведения стали переводить на европейские языки. Вдруг выяснилось, что русские эмигранты, которые по всему Парижу открыли рестораны и кабаре, обладают еще и собственной литературной культурой. Но интерес довольно быстро иссяк, даже Бунин так и остался писателем, неизвестным широкой зарубежной публике. Что уж говорить о более молодых авторах, которые ничего не успели написать до эмиграции: у них, в отличие от Цветаевой, Гиппиус и Мережковского, не было достаточного культурного багажа и связей с западной творческой интеллигенцией.
Молодые эмигрантские авторы внимательно читали не только русскую, но и французскую литературу. Они пытались отобразить свой опыт, применяя модели западного модернистского письма. Но Поплавскому и другим писателям его поколения поначалу было трудно публиковаться даже в эмигрантских изданиях, не говоря уже о том, чтобы получить признание за пределами этого круга. Они практически не переводились.
Естественно, что в таких обстоятельствах некоторые авторы пытались переходить на иностранные языки. Например, Ирен Немировски всегда печаталась по-французски, хотя она была частью диаспоры, и темы ее произведений нередко были связаны с русской литературной традицией. За многими ее французскими текстами стоят русские подтексты. Если рассматривать эти произведения с точки зрения двух литературных традиций, то мы начинаем понимать их сложный, гибридный характер. В 1920–1930-е годы книги Немировски стали бестселлерами. К сожалению, в годы войны она погибла в концлагере, после чего о ней надолго забыли и открыли вновь уже в начале этого века.
Неслучайно экспериментировал с разными языками и Набоков, который с середины 1930-х годов искал возможность уехать из Германии. Сначала он рассчитывал уехать во Францию и написал по-французски рассказ «Мадемуазель О.», но это ему не удалось. Потом Набоков написал роман The Real Life of Sebastian Knight, ориентируясь на британский английский. Он думал, что ему, возможно, удастся перебраться в Англию и стать английским писателем. В конечном счете Набоков оказался в США и стал американским писателем, но ведь это была вынужденная мера. Через художественные тексты Набокова, через его мемуары, проходит мысль о том, что отказ от родного языка был большой трагедией для него. Однако если писатель хотел достичь успеха вне родины, он был вынужден переходить на иностранный язык.
Поплавский, Гайто Газданов и другие авторы, которых я отношу к «русскому Монпарнасу», за редким исключением начали переводиться на другие языки только после того, как в конце XX века получили признание в России.
— Мне кажется, что авторы из молодого поколения эмигрантов (не считая Набокова) так и не приобрели особой популярности в России. Поплавского или, скажем, Юрия Фельзена читают в основном специалисты либо те, кто интересуется литературой того времени. Как вы считаете, с чем это связано?
— Я думаю, что люди в России и во всем мире сейчас стали в целом меньше читать. Если бы те же авторы попали на русский книжный рынок пораньше, их бы с удовольствием прочли и они были бы известны более широкому кругу. Тогда у многомиллионной и все еще литературоцентричной нации был огромный интерес к ранее недоступным пластам русской культуры.
Кроме того, все зависит от писателя. Поплавский и Фельзен — в принципе не те авторы, которые могут привлечь массового читателя. У Поплавского, например, много метафизики, отсылок к разным философским доктринам, а его проза в целом бессюжетна и требует подготовленного читателя. Что касается Фельзена, то это оригинальный, но не великий писатель.
Но если мы возьмем Газданова, то это, напротив, пример успеха. Ему повезло: его открыли немного раньше, и в 1990-е годы он вызвал большой интерес. Мне кажется, что Газданов — один из лучших писателей не только своего поколения, но и эмиграции в целом. Он сочетает сложные философские темы с четким сюжетом. Газданова легко и интересно читать, он создает мир, который может завлечь не только эстета, привыкшего к эзотерическим текстам.
Екатерина Бакунина, еще одна героиня моей книги «Русский Монпарнас», в 1930-е годы опубликовала романы «Тело» и «Любовь к шестерым», а затем ушла с литературной сцены. Оба эти романа были напечатаны в России издательством «Гелиос» в серии «Фавориты любви». Российский издатель пытался позиционировать Бакунину как писательницу с эротической изюминкой, но суть ее произведений в другом. Бакунина — часть поколения, которое пыталось осмыслить свой опыт жизни на чужбине. При этом у нее есть темы, связанные с женской эмансипацией. Романы Бакуниной, вышедшие в ярких, аляповатых обложках, были представлены в России как массовое, но популярными они так и не стали.
— Если не ошибаюсь, в той же работе вы отмечаете, что при изучении таких авторов, как Поплавский, Фельзен, Газданов или Бакунина, важно учитывать их некоторую чужеродность русской литературе: нельзя рассматривать их исключительно как продолжателей традиций Серебряного века. В каких контекстах тогда нужно изучать их творчество?
— Действительно, есть такое распространенное среди исследователей мнение, что эмигранты главным образом продолжали прерванную революционными событиями традицию, да и сами авторы озвучивали такую точку зрения. Зинаида Гиппиус любила повторять: «Мы не в изгнании, мы в послании». Их миссия якобы заключалась в том, чтобы сохранять литературную традицию, уничтоженную в Советской России. Во многих российских публикациях говорится, что в 1917 году произошел культурный разрыв, ликвидированный только в конце XX века, когда эмигрантские авторы наконец были опубликованы на родине. Но в таком случае семьдесят лет существования Советского Союза оказываются просто вычеркнуты из истории. Такой взгляд кажется мне довольно наивным. Получается, что советский период — тупиковое ответвление от некоего «исконного» русского пути, после которого все вернулось на круги своя. Но сейчас, как мне кажется, вполне очевидно, что в Советском Союзе воспроизводились, с вариациями, многие модели, которые существовали до революции и продолжают существовать до сих пор. Это имеет отношение и к культуре.
Названных вами авторов можно рассматривать в широком контексте русскоязычной литературы, но с поправкой на то, что они отразили опыт существования за пределами родной страны. Эмигрантский контекст очень важен, но я считаю, что нельзя им ограничиваться.
Меня всегда удивляло, что большинство исследователей сосредотачиваются лишь на диалоге экстерриториальных авторов с русской классикой: с Пушкиным, Гоголем, Достоевским, Толстым. Конечно, влияние этой традиции на эмигрантов было сильным, но в их текстах можно обнаружить нечто большее, и в том числе живой отклик на современную им западную культуру. Более того, самым интересным мне представляется синтез двух этих направлений в их художественных произведениях.
— То, что мы обсуждаем сейчас, так или иначе связано с циркуляцией текстов. Некоторые авторы сборника «Век диаспоры» в своих статьях обращаются к концепции мировой литературы. Каким образом изучение диаспоральных сюжетов может уточнить или обогатить существующие модели мировой литературы?
 — Мировая литература (World Literature) — весьма модный в последние годы литературоведческий термин. Авторы первых концептуальных работ о мировой литературе (Паскаль Казанова, Франко Моретти, Дэвид Дамрош) оперируют такими понятиями как «дом», «истоки», «национальный язык», «изначальный контекст». Они изучают произведения, которые были созданы в определенном национальном культурном пространстве, а затем начали циркулировать в переводах и каким-то образом повлияли на других авторов и другие литературы. Теоретики мировой литературы обращают внимание главным образом на паралитературные аспекты (циркуляция текстов и др.), а также на рецепцию произведений. Это небезынтересный подход, но такими сюжетами гораздо успешнее занимается рецептивная эстетика. Терминологический аппарат исследователей мировой литературы не вполне применим к литературе диаспоры, которая демонстрирует, что произведение может иметь несколько истоков: и в своей национальной традиции, и в инонациональном контексте. То же самое касается языка. Многие русскоязычные авторы из диаспоры использовали в своих произведения большое количество иностранных слов. Иногда это делалось в комических целях, а иногда они просто воспроизводили специфическую речь эмигрантов, их двуязычное сознание. Многие диаспоральные тексты написаны как бы между языками и в идеале обращены к билингвальному читателю.
— Мировая литература (World Literature) — весьма модный в последние годы литературоведческий термин. Авторы первых концептуальных работ о мировой литературе (Паскаль Казанова, Франко Моретти, Дэвид Дамрош) оперируют такими понятиями как «дом», «истоки», «национальный язык», «изначальный контекст». Они изучают произведения, которые были созданы в определенном национальном культурном пространстве, а затем начали циркулировать в переводах и каким-то образом повлияли на других авторов и другие литературы. Теоретики мировой литературы обращают внимание главным образом на паралитературные аспекты (циркуляция текстов и др.), а также на рецепцию произведений. Это небезынтересный подход, но такими сюжетами гораздо успешнее занимается рецептивная эстетика. Терминологический аппарат исследователей мировой литературы не вполне применим к литературе диаспоры, которая демонстрирует, что произведение может иметь несколько истоков: и в своей национальной традиции, и в инонациональном контексте. То же самое касается языка. Многие русскоязычные авторы из диаспоры использовали в своих произведения большое количество иностранных слов. Иногда это делалось в комических целях, а иногда они просто воспроизводили специфическую речь эмигрантов, их двуязычное сознание. Многие диаспоральные тексты написаны как бы между языками и в идеале обращены к билингвальному читателю.
Конечно, литература диаспоры может расширить наше представление о мировой литературе. Главный пафос исследователей мировой литературы — это выход за пределы традиционных культурных центров, пересмотр европоцентричных представлений о мировом литературном каноне, акцент на периферийных явлениях, субкультурах и субканонах. Но проблема в том, что за точку отсчета они продолжают принимать традиционные центры вроде Парижа. Литература диаспоры демонстрирует, что транснациональность — это не только факт бытования текста: она может быть интегрирована в ткань художественного произведения, стать частью его поэтики и языка.
— А осуществлялась ли циркуляция текстов между центрами русской эмиграции, сложившимися в XX веке?
— В начале XX века физическое перемещение между странами было затрудненным, но информация так или иначе циркулировала. Я уже отмечала, что авторы из разных уголков диаспоры присылали свои произведения в европейские эмигрантские издания. В Праге, например, выходил журнал «Воля России», который предлагал молодым авторам присылать свои работы. Но существовала довольно жесткая иерархия изданий. Например, «Современные записки» имели репутацию журнала, в который сложно попасть молодым авторам с «неправильной» идеологической ориентацией (например, тем, кто слишком активно интересовался советским авангардом). Журнал контролировали мэтры первой волны эмиграции, при этом многие из них были даже не литераторами, а общественными и политическими деятелями. «Современные записки» рассылались по всем центрам эмиграции и зачитывались до дыр, попасть в этот журнал было пределом мечтаний для многих «периферийных» авторов.
Кроме того, эмигрантское сообщество связывали дискуссии о происходящем в Советском Союзе. Возьмем такое явление, как русский фашизм, не имеющее прямого отношения к литературе. Многие поддерживали фашистов, потому что считали их единственной силой, способной свергнуть большевиков. В парижском круге Гиппиус и Мережковского были сильны профашистские настроения. Фашистская идеология пользовалась поддержкой в русских диаспорах Китая, и люди находили разнообразные каналы, чтобы обмениваться информацией на эту тему.
— Ваша книга охватывает сто с лишним лет истории русской эмигрантской литературы. Как на протяжении этого времени менялось положение и позиционирование авторов-эмигрантов?
— Если мы возьмем эмигрантов первой волны, то они были эмоционально тесно связаны с дореволюционной Россией. В статье «Литература в изгнании» Ходасевич писал, что русская культура и русский язык — самое ценное, что сохранилось у эмигрантов. Они считали себя истинно русскими писателями даже по отношению к тем, кто остался в Советском Союзе. Вячеслав Иванов, который жил в Риме, заявлял, что это он находится на родине, то есть в лоне сформировавшей его европейской культуры, а жители СССР — наоборот, за границей.
Если же мы говорим об эмигрантах 1970-х годов, то у них не было такого ностальгического отношения к СССР. В отличие от первой волны, когда у людей были иллюзии, что они скоро снова окажутся в России, более поздние эмигранты были уверены, что не смогут вернуться на родину, их туда просто не пустят, да и сами они относились к Советскому Союзу крайне скептически. Поэтому люди этого поколения позиционировали себя совершенно иначе.
Когда в 1970-е годы эмигранты попадали за рубеж, их часто пытались использовать в политических целях. Ольга Матич, занимавшаяся эмиграцией этого периода, отмечала, что неангажированный политически писатель-эмигрант был не очень интересен западному культурному истеблишменту.
В целом на протяжении всего XX века происходит отход от ориентации исключительно на национальное культурное пространство и канон. Многие авторы начинают определять себя как людей двух культур. Например, Зиновий Зинник в 1970-е годы эмигрировал в Израиль, а затем оказался в Англии. Он прямо заявляет, что на многие явления смотрит «с британской точки зрения» даже тогда, когда пишет по-русски. Думаю, что это не совсем так и у него более гибридная перспектива, но это пример автора, который уже не относит себя только к русской национальной традиции и, скорее всего, возразит, если вы назовете его русским эмигрантом.
Но, безусловно, нельзя говорить об однонаправленном процессе перехода от национального к транснациональному позиционированию. В каждый период сосуществуют разные подходы к самоидентификации.
— Насколько я знаю, сейчас вы работаете над книгой о литературе русской диаспоры в Израиле. Можете немного рассказать об этом замысле?
 Мария Рубинс
Мария Рубинс
— Израиль уникален тем, что русская диаспора сохранилась там в более традиционном виде. В этой стране до сих пор есть множество русскоязычных анклавов со своей инфраструктурой: телеканалами, радио, издательствами, театральными спектаклями на русском языке, прессой и так далее.
В Израиле уже на протяжении пятидесяти лет существует собственная русскоязычная литературная традиция. Мне интересен, с одной стороны, диалог этих авторов с метрополией, а с другой — их взгляд на геополитические, культурные, идеологические процессы, происходящие на Ближнем Востоке. Причем я подхожу к этому корпусу текстов с компаративистских позиций, прочитывая их параллельно с откликами на те же вопросы в творчестве иврито- или арабоязычных писателей.
Безусловно, мы не видим прямых связей между авторами, пишущими на этих трех языках. Но когда я начала заниматься этой темой, то обнаружила, что тексты сами по себе устанавливают смысловые контакты. Например, в прошлом году я опубликовала в журнале «Звезда» статью о Михаиле Генделеве, который кажется мне самым интересным поэтом русского Израиля, и о Махмуде Дарвише, признанном лидере арабо-палестинской поэзии. Дарвиш с 1970-х годов был близок к Ясеру Арафату и Организации освобождения Палестины, он до конца своих дней поддерживал террористические методы борьбы с Израилем. Меня же заинтересовал маленький эпизод: лето 1982 года, Ливанская война. Михаил Генделев, врач по образованию, был призван в израильскую армию и непосредственно участвовал в боевых действиях в Западном Бейруте. Впоследствии он упоминал об этих событиях в книге «Великое [не]русское путешествие». Генделев создал также несколько циклов стихов, в которых он осмысляет свой военный опыт. Война сильно повлияла на него, он даже начал иронично называть себя «поэтом военной темы». Генделев вышел из ленинградского андерграунда и сформировался под влиянием русского модернизма и диссидентской поэзии, а в результате войны превратился в израильского поэта, хотя и пишущего на русском языке.
Я обнаружила, что между стихами Генделева и самым известным произведением Дарвиша, название которого можно перевести с арабского как «Память для забвения», есть определенные переклички. Во время войны Дарвиш тоже находился в Западном Бейруте, только по другую линию фронта. С разных позиций (в том числе идеологических и культурных) они наблюдают и участвуют в одном и том же историческом событии. В «Памяти для забвения» Дарвиш описал один день в августе 1982 года: он просыпается от гула самолетов, пытается найти воды, чтобы сварить кофе, а затем до самого вечера блуждает по Западному Бейруту. В представлениях Генделева и Дарвиша этот локальный военный конфликт обрастает метафизическими, религиозными и философскими коннотациями, и для передачи своего предельного экзистенциального опыта они часто выбирают одни и те же тропы и метафоры. Я почти уверена, что Генделев и Дарвиш не читали стихов друг друга и ничего друг о друге не знали, но между их текстами, помимо воли авторов, устанавливается диалог.