Русская топь
Семь восхитительных болот из русской литературы
1. Александр Куприн. Болото (1902)
Александр Куприн, офицер, охотник и искатель приключений, был зачарован болотами и не раз обращался к ним в своем творчестве. Самое известное купринское болото окружает избушку на курьих ножках, в которой живет ведьма Олеся, и уже в начале повести оно затягивает в себя героя повести и предвещает истории дурной конец:
«Кустарник скоро совсем окончился. Передо мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены какой-то хаты. <…> Каждую минуту я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды и при каждом шаге громко хлюпали; становилось невмочь тянуть их за собою».
Но еще более зловещую топь Куприн описал в небольшом рассказе «Болото» — там она символизирует не просто опасность, грозящую тому, кто решился перешагнуть запретную черту, но гибельную зыбкость самого нашего существования. Студент Сердюков оказывается на болоте случайно и неожиданно:
«Дорога шла вниз. На повороте в лицо студента вдруг пахнуло, точно из глубокого погреба, сырым холодком. <…> Вправо и влево от тропинки шел невысокий, путаный кустарник, и вокруг него, цепляясь за ветки, колеблясь и вытягиваясь, бродили разорванные неясно-белые клочья тумана. Странный звук неожиданно пронесся по лесу. Он был протяжен, низок и гармонично-печален и, казалось, выходил из-под земли. Студент сразу остановился и затрясся на месте от испуга. <…> Теперь ничего нельзя было разобрать. И справа, и слева туман стоял сплошными белыми мягкими пеленами. Студент у себя на лице чувствовал его влажное и липкое прикосновение. <…> Дороги не было видно, но по сторонам от нее чувствовалось болото. Из него подымался тяжелый запах гнилых водорослей и сырых грибов. Почва плотины пружинилась и дрожала под ногами, и при каждом шаге где-то сбоку и внизу раздавалось жирное хлюпанье просачивающейся тины».
Выбраться Сердюкову и его спутнику помогает живущий на болоте лесник, дети которого (как и он сам) медленно умирают от болотной лихорадки. Он пускает заблудившихся переночевать, и у него дома оцепеневшего от ужаса студента посещают чудовищные видения:
«Где-то давным-давно Сердюков видел сепию известного художника. Картина эта так и называлась „Малярия”. На краю болота, около воды, в которой распустились белые кувшинки, лежит девочка, широко разметав во сне руки. А из болота вместе с туманом, теряясь в нем легкими складками одежды, подымается тонкий, неясный призрак женской фигуры с огромными дикими глазами и медленно, страшно медленно тянется к ребенку. Сердюков вспомнил вдруг эту забытую картину и тотчас же почувствовал, как мистический страх холодною щеткой прополз у него по спине от затылка до поясницы.
Он вспомнил сегодняшнюю вечернюю дорогу, мутно-белые завесы тумана по сторонам плотины, мягкое колебание почвы под ногами, низкий протяжный крик выпи, — и ему стало нестерпимо, по-детски жутко. Какая загадочная, невероятная жизнь копошилась по ночам в этом огромном, густом, местами бездонном болоте? Какие уродливые гады извивались и ползали в нем между мокрым камышом и корявыми кустами вербы?»
 Может показаться, что Сердюков потрясен условиями, в которых вынуждена существовать семья лесника и особенно дети («Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозябание? Какой смысл в болезнях и в смерти милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный вампир?»), но глубина его отчаяния недвусмысленно указывает на то, что болотом является сама наша жизнь, слепая, жестокая и отравляющая нас день за днем.
Может показаться, что Сердюков потрясен условиями, в которых вынуждена существовать семья лесника и особенно дети («Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозябание? Какой смысл в болезнях и в смерти милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный вампир?»), но глубина его отчаяния недвусмысленно указывает на то, что болотом является сама наша жизнь, слепая, жестокая и отравляющая нас день за днем.
2. Василь Быков. Болото (1961)
Прошедший Великую Отечественную Василь Быков (который, конечно, в первую очередь был белорусским, а уже потом русским классиком) не только писал о насилии, смерти и отчаянии — его болота не манят и не дурманят, они с безразличием ждут людей, вынужденных из-за других людей идти на гибель. В повести «Облава» (1986) записанный в кулаки и сосланный на север Хведор Ровба теряет жену и дочь, а потом решает бежать и вернуться в родные края. Для бывших соседей он преступник и в сущности даже не человек: на него устраивают облаву как на зверя, окружают со всех сторон, и Хведору остается один путь — в смертоносную трясину, где он и гибнет.
«Тем временем зашуршало в соседнем лозовом кусте — конец тонкой палки насквозь пропорол густую листву. Значит, наступил черед и его кочки. Но, должно быть, они не успеют, он опередит их. Хведор зачем-то вздохнул всей грудью и выпустил из рук узловатый корень. Тяжелые ноги в неизносимых постолах сразу повлекли его в бездну бочажины, и он захлебнулся. Изнутри почему-то больно ударило в уши, в глазах все померкло.
Не дано было жить тихо, так хоть тихо умер.
Искали его долго, тыкали шестами в кусты и кочки, шарили в камышах у берега. Да так и не нашли».
Не менее чудовищен сюжет повести «Болото» (1961), герои которой, солдаты, заброшенные в незнакомую местность, блуждают по топям и лесам. Они разыскивают с важным секретным поручением партизанов, но в конце концов нелепо погибают в болоте от их рук, успев проявить худшие качества измученных войной людей. Солдаты гибнут почти с таким же безразличием, с каким пыталась засосать их черная топкая жижа:
«Отдохнув на мягкой и мшистой кочке, они снова пошли по набрякшему водой мху, местами проваливаясь, но пока еще удачно выбираясь на более сухое. Вскоре, однако, вынуждены были остановиться — командир глубоко провалился одной, а затем и обеими ногами. Костя попытался ему помочь, но и сам провалился тоже — почти по пояс. Кое-как выбравшись из грязного провала, осмотрелись, стараясь понять, что впереди. Болото впереди казалось и вовсе непроходимым — трясина с осокой, аиром, частыми окнами черной воды…»
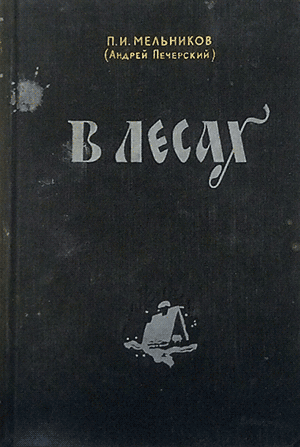 3. Павел Мельников-Печерский. В лесах (1871–1874)
3. Павел Мельников-Печерский. В лесах (1871–1874)
Мельников-Печерский, прозаик, историк и краевед, большую часть жизни занимался изучением старообрядчества, сперва не без успеха боролся с ним, затем поддерживал и основные свои книги посвятил старообрядческому купечеству. «Первостепенный знаток русского быта» (Владимир Даль), он собрал в своих сочинениях множество ценных этнографических наблюдений и в том числе оставил едва ли не самое яркое и пугающее описание болота и болотной нечисти во всей русской литературе. Болото у Мельникова-Печерского списано с натуры, и в то же время так расцвечено всеми красками народных поверий, словно сам он ни секунды не сомневается в точности именно такого взгляда, который его просвещенным современникам мог показаться разве что детской сказкой и темными предрассудками:
«В лесах работают только по зимам. Летней порой в дикую глушь редко кто заглядывает. Не то что дорог, даже мало-мальски торных тропинок там вовсе почти нет; зато много мест непроходимых… Гниющего валежника пропасть, да, кроме того, то и дело попадаются обширные глубокие болота, а местами трясины с окнами, вадьями и чарусами… Это страшные, погибельные места для небывалого человека. Кто от роду впервой попал в неведомые лесные дебри — берегись — гляди в оба!..
Вот на несколько верст протянулся мохом поросший кочкарник. Саженными пластами покрывает он глубокую, чуть не бездонную топь. Это „мшава”, иначе моховое болото. Поросло оно мелким, чахлым лесом, нога грузнет в мягком зыбуне, усеянном багуном, звездоплавкой, мозгушей, лютиком и белоусом. От тяжести идущего человека зыбун ходенем ходит, и вдруг иногда в двух, трех шагах фонтаном брызнет вода через едва заметную для глаза продушину. Тут ходить опасно, разом попадешь в болотную пучину и пропадешь не за денежку… Бежать от страшного места, бежать скорей, без оглядки, если не хочешь верной погибели… Чуть только путник не поберегся, чуть только по незнанию аль из удальства шагнул вперед пять, десять шагов, ноги его начнет затягивать в жидкую трясину, и, если не удастся ему поспешно и осторожно выбраться назад, он погиб…

Фото: Елизавета Дедова
Бежать по трясине — тоже беда… Вот светится маленькая полынья на грязно-зеленой трясине. Что-то вроде колодца. Вода с берегами вровень. Это „окно”. Беда — оступиться в это окно, там бездонная пропасть. Не в пример опасней окон „вадья” — тоже открытая круглая полынья, но не в один десяток сажен ширины. Ее берега из топкого торфяного слоя, едва прикрывающего воду. Кто ступит на эту обманчивую почву, нет тому спасенья. Вадья как раз засосет его в бездну.
Но страшней всего „чаруса”. Окно, вадью издали можно заметить и обойти — чаруса неприметна. Выбравшись из глухого леса, где сухой валежник и гниющий буреломник высокими кострами навалены на сырой, болотистой почве, путник вдруг, как бы по волшебному мановенью, встречает перед собой цветущую поляну. Она так весело глядит на него, широко, раздольно расстилаясь середи красноствольных сосен и темнохвойных елей. Ровная, гладкая, она густо заросла сочной, свежей зеленью и усеяна крупными бирюзовыми незабудками, благоуханными белыми кувшинчиками, полевыми одаленями и ярко-желтыми купавками. Луговина так и манит к себе путника: сладко на ней отдохнуть усталому, притомленному, понежиться на душистой, ослепительно сверкающей изумрудной зелени!.. Но пропасть ему без покаяния, схоронить себя без гроба, без савана, если ступит он на эту заколдованную поляну».
Дальше начинается самое интересное. Чтобы не утомлять читателя, описание облика и повадок болотняника, хозяина топи, мы опустим. Процитируем лишь несравненный фрагмент, в котором воспевается болотница, то есть кикимора:
«У лесников чаруса слывет местом нечистым, заколдованным. Они рассказывают, что на тех чарусах по ночам бесовы огни горят, ровно свечи теплятся. А ину пору видают середи чарусы болотницу, коль не родную сестру, так близкую сродницу всей этой окаянной нечисти: русалкам, водяницам и берегиням… В светлую летнюю ночь сидит болотница одна-одинешенька и нежится на свете ясного месяца… и чуть завидит человека, зачнет прельщать его, манить в свои бесовские объятья… Ее черные волосы небрежно раскинуты по спине и по плечам, убраны осокой и незабудками, а тело все голое, но бледное, прозрачное, полувоздушное. И блестит оно и сквозит перед лучами месяца… Из себя болотница такая красавица, какой не найдешь в крещеном миру, ни в сказке сказать ни пером описать. Глаза — ровно те незабудки, что рассеяны по чарусе, длинные, пушистые ресницы, тонкие, как уголь, черные брови… только губы бледноваты, и ни в лице, ни в полной, наливной груди, ни во всем стройном стане ее нет ни кровинки. А сидит она в белоснежном цветке кувшинчика с котел величиною… Хитрит, окаянная, обмануть, обвести хочется ей человека — села в тот чудный цветок спрятать гусиные свои ноги с черными перепонками. Только завидит болотница человека (старого или малого — это все равно), тотчас зачнет сладким тихим голосом, да таково жалобно, ровно сквозь слезы молить-просить вынуть ее из болота, вывести на белый свет, показать ей красно солнышко, которого сроду она не видывала. А сама разводит руками, закидывает назад голову, манит к себе на пышные перси того человека, обещает ему и тысячи неслыханных наслаждений, и груды золота, и горы жемчуга перекатного… Но горе тому, кто соблазнится на нечистую красоту, кто поверит льстивым словам болотницы: один шаг ступит по чарусе, и она уже возле него — обвив беднягу белоснежными прозрачными руками, тихо опустится с ним в бездонную пропасть болотной пучины… Ни крика, ни стона, ни вздоха, ни всплеска воды. В безмолвной тиши не станет того человека, и его могила на веки веков останется никому не известною».
4. Иван Шмелев. Под небом (1910)
Насколько глубокие и иррациональные переживания может вызывать болотная топь, показывает один из ранних рассказов Ивана Шмелева: его главный герой, крестьянин по прозвищу Дробь, самобытный мистик-проповедник, провожает двух охотников из интеллигенции на таинственное и опасное Провал-болото. Место это стало таким по воле Николая Угодника — он наказал за жестокость жившего там боярина, а в глубинах Провал-болота скрывается земной рай, добраться до которого могут лишь те, кто силен духом и не боится смерти. В характерной для народной религиозности манере автор наделяет болотное пространство одновременно ужасающей смертоносностью и желанностью, и это как нельзя лучше характеризует отталкивающую притягательность трясины, интуитивно понятную каждому. Проводник не боится близости смерти, напротив — она приводит крестьянина в восторг, словно болото дарует ему власть над ней:
«Двинулись по едва приметной тропе, в зеленом полусвете зарослей.
Тропка вертелась. Начались попадаться лужи с темной водой, с гниющими на дне листьями. Чувствовалось подрагивание почвы. Редели и отступали заросли. Чаще встречалась лозина. Корявый ольшанник пушился по сторонам. Парило. Тропка стерлась. За лозинами, вправо, блеснула болотина.
— Тут зачинается Провал, — сказалъ Дробь. — Гляди-ка!
Он ступил в сторону, на кочку, поднял шест и стал опускать. Шест подрожал и вдруг точно прорвал что-то, ушел весь. Под ними была трясина.
<…>
Дробь осмотрелся, поискал что-то на кусту ольхи и сказал:
— Теперь пожалуйте на кочку. Отсюда зачинается бездорожье. — А вы, ежели назад, так отсюда и ступайте… — сказал он Василию Николаевичу. — А дальше окна пойдут, сокрытые от глаза неопытного. Теперь вокруг — смерть!.. Шаг — и смерть, шаг — и смерть!..
Он говорил возбужденно, захлебываясь. Точно было приятно ему сознавать эту прятавшуюся, кругом разлитую смерть, прикрытую солнцем, зеленеющими буграми, тонкой изумрудной травой. Точно она была в его власти, такая простая, как этот шест, которым тычет он в хлюпающие трясины. Точно он может в любую минуту вызвать ее или отстранить».
5. Михаил Пришвин. Болото (1920-е)
Блудово болото из знаменитой пришвинской сказки-были «Кладовая солнца» производит крайне странное впечатление. С одной стороны, мы имеем дело со слегка завуалированным инициатическим ритуалом: герой проходит через опасные испытания, как бы умирая и рождаясь заново — уже взрослым; с другой стороны, автор рационализирует сказочные мотивы и в том числе объявляет само болото «кладовой солнца», накапливающей полезный для жизни людей торф:
«Мы это так понимаем, что все Блудово болото, со всеми огромными запасами горючего торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф, достается человеку от солнца в наследство».
Однако именно болото заманивает и засасывает мальчика Митрашу, и там же обитает пытающийся убить его волк — только победив двух этих чудовищ, болото и волка, он станет настоящим героем и переродится. На фоне этого благодушные рассуждения о пользе торфа кажутся простой данью времени: об этом свидетельствует и более ранний текст Пришвина — написанная в 1920-х и вошедшая впоследствии в сборник «Календарь природы» миниатюра «Болото».

Фото: Елизавета Дедова
«Вид очень длинного и кривого клюва кроншнепа всегда переносит мое воображение в давно прошедшее время, когда не было еще на земле человека… Да и все в болотах так странно, болота мало изучены, совсем не тронуты художниками, в них всегда себя чувствуешь так, будто человек на земле еще и не начинался. <…>
Велев собакам лежать, я с радостью оглянулся вокруг себя: комарики сильно покусывали, но я к ним привык и даже благодарил этих стражей болот, этих поющих демонов, что не пускают дачников и всяких гуляющих людей; благодаря им болота остаются единственно вполне девственной землей, принимающей к себе только тех, кто может много терпеть, не теряя радостного духа.
Как хорошо мне было в неприступных болотах и какими далекими сроками земли веяло от этих больших птиц с длинными кривыми носами, на гнутых крыльях, пересекающих диск красного солнца!»
Герой этого текста, благодаря поющим демонам и собственным аскетическим навыкам, погружается на болоте в особое состояние единения с природой, которое нарушает внезапно появившийся незнакомец:
«Я уже хотел было наклониться к земле, чтобы взять себе одно из этих больших прекрасных яиц, как вдруг заметил, что вдали по болоту прямо на меня шел человек. У него не было ни ружья, ни собаки и даже палки в руке; никому никуда отсюда пути не было, и людей таких я не знал, чтобы тоже, как я, могли под роем комаров с наслаждением бродить по болоту. Мне было так же неприятно, как если бы, причесываясь перед зеркалом и сделав при этом какую-нибудь особенную рожу, вдруг заметил бы в зеркале чей-то чужой изучающий глаз. Я даже отошел от гнезда в сторону и не взял яйца, чтобы человек этот своими расспросами не спугнул бы мне, я это чувствовал, дорогую минуту бытия».
Конечно, по-настоящему герою текста помешать невозможно, но его выводит из равновесия «чужой глаз». По-видимому, речь идет об отголосках народных представлений о дурном, вредоносном взгляде, верить в опасность которого автор «Календаря природы» по идее не должен. Однако прогулка по болоту становится для него опытом глубокого погружения в архаику, скрытую в человеке под тонким налетом цивилизации и всегда готовую вырваться наружу:
«А на краю болот жили люди, и они тоже боялись „глазу”. Во мраке наступившей ночи в глазах моих не потухал диск красного солнца, и я понимал, что люди страх свой перед „глазом” сохранили в себе еще с тех далеких времен, когда сами жили как птицы».
6. Александр Блок. Пузыри земли (1904–1905)
Болото в раннем блоковском сборнике не несет в себе никакой угрозы, оно не заманивает, не расставляет ловушек и не стремится никого поглотить. Напротив, внутри него скрыта огромная сила, а сама топь пребывает в вечном покое, и даже болотная нежить отличается смирным поведением и чуткостью (болотный попик перевязывает лапу лягушке, чертенята сидят «тише вод и ниже трав»), а в одном из стихотворений с не очень внятной мистической образностью речь идет о «болотной схиме», то есть о болотном монашеском послушании и аскезе. Где Александр Блок увидел такое благостное и словно бы обчитавшееся Владимира Соловьева болото — неизвестно, но в русской литературе есть тем не менее и такой образец.
***
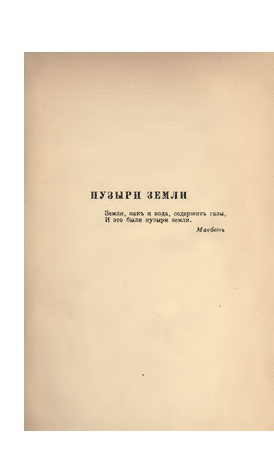 Полюби эту вечность болот:
Полюби эту вечность болот:
Никогда не иссякнет их мощь.
Этот злак, что сгорел, — не умрет.
Этот куст — без истления — тощ.
Эти ржавые кочки и пни
Знают твой отдыхающий плен.
Неизменно предвечны они, —
Ты пред Вечностью полон измен.
Одинокая участь светла.
Безначальная доля свята.
Это Вечность Сама снизошла
И навеки замкнула уста.
7. Варлам Шаламов. Перчатка (<1972>)
Наконец, самое простое и самое страшное болото описал в рассказе «Перчатка» Варлам Шаламов: в нем нет ничего, кроме слепой всепоглощающей силы, с которой человеку не совладать. От романтического представления об одухотворенной природе не осталось и следа, это торжество слепого уничтожения в чистом виде: миллионы трудочасов заключенных, лечившихся в колымской больнице, и горы камней ушли на то, чтобы засыпать болото и подвести к зданию дорогу, но в результате ничего не вышло. Не то, что мните вы, природа:
«Колымские болота — могила посерьезней каких-нибудь славянских курганов или перешейка, который был засыпан армией Ксеркса.
Каждый больной, выписываясь из „Беличьей”, должен был бросить камень в больничное болото — плиту известняка, заготовленную здесь другими больными или обслугой во время „ударников”. Тысячи людей бросали камни в болото. Болото чавкало и проглатывало плиты.
За три года энергичной работы не было достигнуто никаких результатов. Снова требовался зимник, и бесславная борьба с природой замирала до весны. Весной все начиналось сначала. <…> После трехлетних непрерывных всеобщих усилий начерчен был только пунктир — некий зигзагообразный ненадежный путь от трассы до „Беличьей”, путь, по которому нельзя было бежать, идти или ехать, а можно было только прыгать с плиты на плиту — как тысячу лет назад с кочки на кочку.
<…>
Болото торжествовало».

Фото: Елизавета Дедова