Ренессанс XII века
Олег Воскобойников о Шартрской школе и классической традиции в Средние века
Недавно в «Литпамятниках» вышла книга «Шартрская школа» — сборник текстов средневековых философов и богословов XII века, совершивших настоящую революцию, но до сих пор мало известных широкой публике. Мы поговорили об этом издании с его составителем и одним из редакторов и переводчиков Олегом Воскобойниковым: «Горький» расспросил его о значении трудов шартрцев, о том, почему представители церкви в то время интересовались текстами Платона, герметическим корпусом и астрологией, а также о том, какое влияние Шартр оказал на Клайва Стейплза Льюиса.
Шартрская школа: Гильом Коншский. Философия; Теодорих Шартрский. Трактат о шести днях творения; Бернард Сильвестр. Космография; Комментарий на первые шесть книг «Энеиды»; Астролог; Алан Лилльский. Плач Природы / Изд. подг. О. С. Воскобойников, пер. и комм.: О. С. Воскобойников, Р. Л. Шмараков, П. В. Соколов, Отв. ред. М. Ю. Реутин. М.: Наука, 2017
Почему вы стали заниматься ранним Средневековьем, а не Античностью — ведь вам все равно сперва надо было ее неплохо изучить, а также Библию и много чего еще? Вы словно бы сильно усложнили себе задачу.
В школьные годы я был обычным хулиганом и вообще ни о какой науке не думал. Единственное, что мне нравилось изучать в школе в последние годы, — иностранные языки, поэтому я пришел на истфак с тремя иностранными языками, что, в общем, не так часто случалось в те годы. Сейчас, конечно, не составляет труда встретить первокурсника с двумя иностранными языками, а тогда нас было лишь несколько человек на весь набор. Мне казалось, что мою способность к языкам нужно как-то использовать: «Поэтом можешь ты не быть, но переводчиком обязан», — наверное, как-то так я себе говорил. Мне хотелось выбрать такую тему для исследования, чтобы могли пригодиться разные языки.
На первом курсе я изучал древность, латынь, но Средневековье я любил с детства. Это сугубо эмоциональный момент, мною не отрефлектированный, — Античность казалась более скучной. Однако в итоге надо было выбрать специализацию. После Античности было бы довольно сложно переквалифицироваться в медиевисты в те годы, да и сейчас, пожалуй, нелегко. Антиковедение и медиевистика — разные кафедры и разные миры, то есть институционально это тоже было непросто. Даже сейчас в МГУ антиковедение и медиевистика предполагают разную подготовку (в Вышке, конечно, с этим проще).
Я сделал свой выбор, хотя понимаю, что Античность, наверное, мне следовало бы изучать побольше. В конце концов, меня волнует то, что называется «классической традицией» — ценности, образы, идеи, возникшие и в семитском мире Библии, и в греко-римской Античности, их существование в Средние века и то, как они трансформировались в сознании людей и в литературе.
То есть вы почти с самого начала были обречены на междисциплинарность? Ведь часто у медиевистов довольно узкая специализация.
Был ли я «обречен» на это — только Господь знает. К концу студенческих лет на истфаке я худо-бедно выучил латынь, греческий и немецкий, основной круг западных языков можно было считать закрытым, а из этого уже возникло то, что можно считать моей «междисциплинарностью». Мне все-таки кажется, что хороший гуманитарий всегда немножко «междисциплинарен». Даже ученый относительно узкой направленности должен мыслить широко, пусть он занимается не известными памятниками, а какими-то локальными сюжетами — например, каким-нибудь «средневизантийским письмом», вот уж куда, казалось бы, уже? Я говорю о Борисе Львовиче Фонкиче, который всю жизнь изучает византийские почерки, но при этом человек очень широкого кругозора. Таких примеров много. Конечно, и среди гуру моих юношеских лет были люди, способные писать об искусстве, философии, художественном слове и истории. Конечно, такие ученые меня привлекали: Аверинцев, Гаспаров, Гуревич… Затем к ним присоединились те, кого мне посчастливилось встретить во Франции, Германии, Италии, Англии и США. И, конечно, общение с ними не только в пассивной форме, когда они тебя чему-то учат, но и в активной, в диалоге — когда в столовой с ними оказываешься, например, или на конференции, — тебя подзуживает немного: «А посмотри там, сравни с этим»… Вот и выходит «междисциплинарность».
Недавно на «Магистерии» вышел ваш курс о языке средневекового искусства — для выпускника истфака МГУ это ведь не совсем характерно.
В этом моем предприятии есть некоторый вызов, я не сразу решился выпустить такой курс, на его обдумывание ушло несколько лет. Когда меня пригласили в Вышку, спросили, что я могу преподавать помимо истории Средневековья. Я ответил, что могу попробовать читать общий курс по истории искусства — на моем родном истфаке МГУ мне такое даже близко не грозило, там есть свое отделение для этого, а в Вышке тогда такого не было. Но, вообще, тернистым мой путь к искусству я бы не назвал — наоборот, все сложилось вполне удачно. Меня иногда журили, но чаще хвалили и поддерживали на самых разных этапах, начиная с дипломной работы. Одна из моих первых научных статей, опубликованная в журнале «Одиссей» еще при жизни Гуревича, была посвящена искусству Южной Италии в XIII столетии. Есть еще очень личный момент: мои ближайшие друзья-однокашники, Андрей Виноградов и Лев Масиель Санчес, занимаются искусством, хотя мы все трое закончили именно истфак. В конце концов мы вместе пришли к академическому искусствознанию разными путями, теперь вместе работаем в Школе исторических наук в Вышке, читаем разные курсы. Андрей занимается Византией, Лев — барокко, а я, наряду с Анной Пожидаевой, в какой-то мере отвечаю за западное Средневековье.

Олег Воскобойников
Фото: предоставлено автором
Мое представление об этой профессии сложилось под влиянием многих вполне почтенных искусствоведов, начиная с Ольги Поповой, заканчивая моими французскими учителями, людьми с искусствоведческим образованием. С другой стороны, я знаю, что вовсе не все классики искусствоведения по образованию искусствоведы. Эрвин Панофский и Генрих Вёльфлин считаются основателями искусствоведения как раз потому, что учились другим наукам. Искусствознание родилось на рубеже XIX–XX веков (или чуть раньше из сплава самых разных наук), и о своих, скажем так, общегуманистических корнях оно никогда не забывает. Были и есть историки искусства, которые уходили и уходят в другие области — в психологию, социологию искусства, культурологию, философию, собственно историю. Это нормально.
Про искусство понятно, но с «Шартрской школой», вышедшей в «Литпамятниках», все еще сложнее: там и литература, и теология, и философия, и рецепция античного наследия. Как вы вообще заинтересовались этим феноменом, откуда взялась идея подготовить такое сложное издание?
Дело это опять же довольно личное (впрочем, не знаю, бывает ли иначе). В 1994 году, на первом курсе, я слушал последние лекции Арона Гуревича в МГУ. На исторический факультет его никогда не пускали, но в перестроечные годы разрешили читать спецкурс по средневековой культуре при кафедре истории и теории мировой культуры философского факультета. В общем, мое первое свидание со Средневековьем произошло благодаря живому классику. Одна лекция у него была про свободомыслие, там говорилось о Ренессансе XII века и Шартрской школе. Гильом Коншский трактовал богословские вопросы с точки зрения физики, церковь восприняла это в штыки — запахло паленым, подумал я тогда. Так я узнал про Шартрскую школу, но до поры до времени отложил эту тему, потому что заниматься французской культурой мне бы вряд ли тогда дали, — я обратился к средневековой Италии. Шартрская школа была для меня фоновым интересом многие годы, но я не знал, что нового там могу сделать, поэтому занимался Южной Италией, искусством, а лет десять-двенадцать назад со студентами МГУ начал читать на спецсеминаре разные средневековые тексты на латыни и их переводить. Решил собственную латынь поддерживать таким способом. Когда сам для себя читаешь, то, не поняв какое-то слово, чего греха таить, пропускаешь его и идешь дальше, а когда урок ведешь — нужно копаться в каждой детали, ты не можешь пройти мимо непонятного тебе выражения, потому что студенты ждут от тебя объяснения. Но и сами что-то находят, подсказывают, прощают. Я такую работу люблю так же сильно, как любил «совместный труд» кот Матроскин… Как-то за год мы перевели «Философию» Гильома Коншского. Перевели и забыли. Затем, уже с другой группой, перевели «Шестоднев» магистра Теодориха Шартрского, современника Гильома из Конша, канцлера Шартрского собора. Комментарий этот сугубо философский, но совершенно удивительный — очень живой текст, настоящий, искренний, пусть и незавершенный. Сама эта незавершенность привлекает: видишь, как мысль струится, не деградируя до догмы. В какой-то момент поступило предложение опубликовать этот перевод в коллективном сборнике по философии. Мы с Павлом Соколовым, моим тогдашним учеником, а теперь доцентом философии, довели текст до ума, написали комментарий и опубликовали. Публикация вызвала некоторый резонанс в узком кругу читателей, на которых она и была рассчитана. А летом 2014 года я сидел с ребенком на даче и решил-таки доделать наш со студентами перевод Гильома Коншского — месяца два педантично каждый день садился и писал, но где опубликовать «Философию» тогда не мог придумать. И вдруг переводчик, филолог-классик и писатель Роман Шмараков написал в фейсбуке с присущей ему самоиронией, что он-де наконец-то закончил перевод «Комментария на первые шесть книг „Энеиды”» Бернарда Сильвестра и теперь не знает, куда его девать. Тут-то у меня в голове и возник прообраз книги, лежащей теперь на прилавках у книжников. Роман согласился объединить под обложкой «Шартрской школы» ряд текстов, и мы договорились одновременно сесть: он — за «Плач Природы» Алана Лилльского, я — за «Космографию» Бернарда Сильвестра.
Получалась интересная картина: «Космография» и «Плач Природы» — это прозиметры, то есть сочинения, сочетающие прозаические и стихотворные рассуждения о космологии, обрамленные литературной фабулой. Как и комментарий Теодориха на Шестоднев, «Космография» — размышление о том, как сотворен и устроен мир, но в художественной форме. Теодорих все же мыслил себя как грамматик и комментатор, и одновременно как богослов, потому что комментировал священный текст. В XII веке ты не можешь быть экзегетом, если ты не богослов. Но Теодорих комментирует священный текст во всеоружии семи свободных искусств, арифметики, риторики и грамматики, во всеоружии платоновского «Тимея», псевдогерметического «Асклепия». Бернард Сильвестр, либо ученик Теодориха, либо близкий друг, пишет поэму со свободной литературной фабулой, с персонажами и божественным разумом в виде одной из действующих сил. Сам Бог в драме не участвует, потому что нехорошо Бога выводить на сцену. Вместо него действует Промысл или Разум, эманация божества, одно из его проявлений. И дальше — Урания, Природа, Физис и т. д., все эти персонажи порождают человека. Очень красивое произведение, одно из самых удивительных средневековых сочинений и вместе с тем одно из самых сложных, на мой взгляд. Из него отчасти вышел Клайв Стейплз Льюис, медиевист по образованию. Его «Хроники Нарнии» — это христианская сказка, а его писательский опыт навеян литературой XII века и, в частности, Бернардом Сильвестром. «Космография» — аллегоричный и многоплановый текст, Льюис успел передать свою любовь к нему одному из крупнейших патриархов американской медиевистики, Брайану Стоку, своему последнему ученику. Тот написал красивую диссертацию, многое раскрыл в этом произведении… Я сам когда-то читал «Космографию», но, конечно, пока сам ее не переведешь, понять ее крайне сложно. Я очень надеюсь, что открыл ее русскому читателю. Но, боюсь, сказать, что ты прочел «Космографию», то же, что сказать, что ты прочел «Божественную комедию» или «Улисса». Меня в «Космографии» безумно привлекло, что это такой удивительный памятник, над которым можно бесконечно размышлять и который бросает тебе вызов из прошлого.
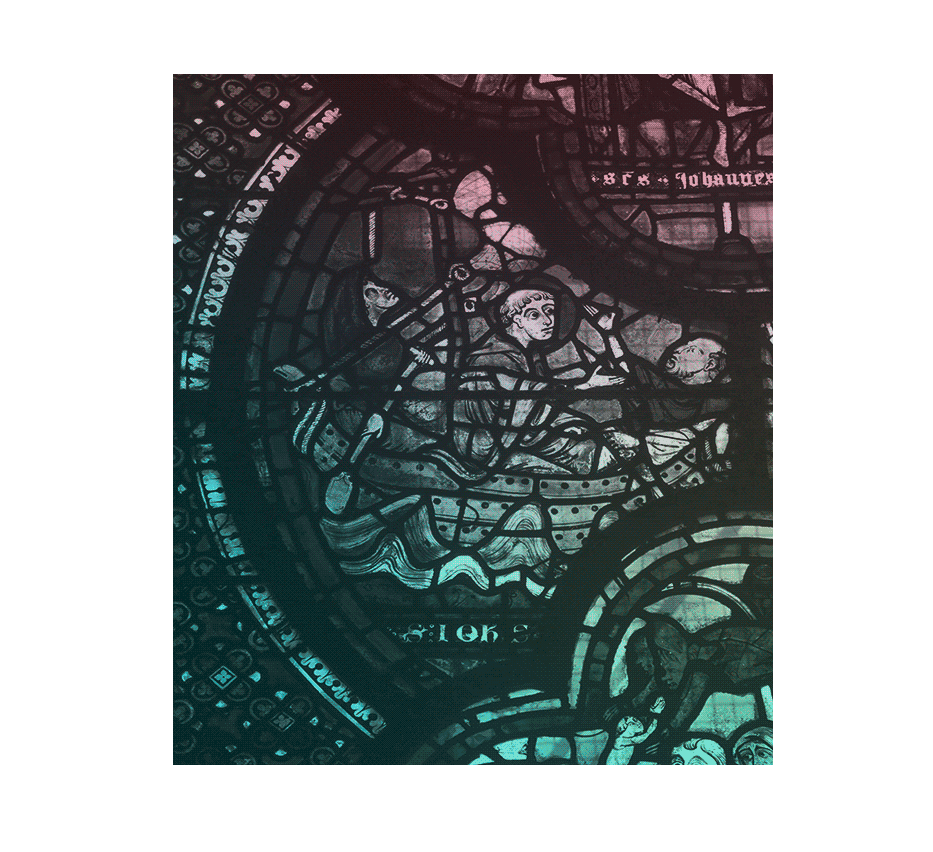
Фрагмент витража Шартрского собора
Фото: предоставлено Олегом Воскобойниковым
Алан Лилльский, в отличие от Бернарда, не имевшего никаких почетных званий, получил звание «doctor universalis», попросту — всезнайки, потому что писал обо всем на свете и был одновременно и проповедником, и богословом, и поэтом. Это очень сложный персонаж, проживший к тому же более долгую жизнь, чем Бернард. «Плач Природы» — это, по сути, та же «Космография», только с усиленным мотивом плача, жалобы Природы на испорченность человека. В начале «Космографии» тоже есть этот плач, там Природа жалуется на хаос и просит, обращаясь к Господу: «Сделай что-нибудь красивое». А в «Плаче Природы» Природа жалуется Господу на человека: мол, «посмотри на это убожество, надо что-то сделать» — и они что-то исправляют. В смысле поэтики Бернард — классик, Алан — это барокко. Алан возводит витиеватость в принцип, он не может назвать вещь своим именем, не погрешив против своего представления о красоте и действенности слова. Если Бернард иногда темнит и усложняет, то Алан темнит в квадрате. «Плач Природы» более влиятельное произведение, чем текст Бернарда, и я бы сам никогда не взялся переводить «Плач Природы». Роману Шмаракову же это удалось на славу. Он обладает собственным литературным стилем и чутьем переводчика, которое редко встретишь среди медиевистов. Обычному читателю с его Аланом придется нелегко. Это вам не Пушкин и не Толстой, не Уэльбек и не Гавальда, даже не гнедичев Гомер. Мне трудно себе представить, чтобы кто-нибудь вечером взял и прочитал «Плач Природы», потому что бессмысленно превращать заведомо сложную литературу в нечто «доступное». Читателю придется как бы «смириться» — и тогда ему откроется то, что тоже не без труда открывалось средневековым читателям Алана. Там, где современный русский язык ставит «й» в окончаниях падежей, там будут стоять буквы «ю», «я» или «е», из-за чего текст получает особую тональность. Он то идет в гору, то спускается, то тебе легко, то тяжко — как и в оригинале.
К вопросу о словосочетании «Шартрская школа» — а что означает понятие «школа» в данном контексте?
Шартрская школа понятным образом связана с городом Шартр, но не совсем ясно, что значит «школа». Мы, конечно, можем думать, что школа — это когда есть здание, определенные уставные документы, преподаватели, тексты, ученики, экзамены, дипломы. Но в XII веке университеты еще только формируются. Если из одних школ возникли такие университеты, «studium» превращался в «studium generale» с несколькими факультетами, то Шартр таковым не стал. А если бы он и стал университетом, то я уверен, что университетская корпорация сохранила бы память о своих учителях и вместе с этой памятью сохранилось бы предание о том, как они там преподавали. Но ученики разбежались оттуда в разные концы тогдашней культурной ойкумены — Англия, Франция, Италия, — они вспоминали своих учителей, называя их шартрцами, прежде всего Бернарда Шартрского, от которого не дошло надежно атрибутируемых текстов. Ему принадлежит знаменитая шартрская фраза «Мы карлики на плечах гигантов, не потому что мы мудрее их, а потому что мы видим дальше, сидя у них на плечах». Ему приписывает эту фразу Иоанн Солсберийский, крупный английский мыслитель второй половины XII века, который учился не у него, а у Гильома Коншского, который, в свою очередь, учился у Бернарда Шартрского. Несколько поколений таких связей мы прослеживаем с XI века. То есть можно проследить традицию диалектики в Шартре со времен святых Фульберта и Ива Шартрских, епископов XI века. Но литературно-философским явлением в строгом смысле слова Шартр был только в первой половине XII века. Мы знаем, что несколько человек там все же преподавали: Бернард и Теодорих Шартрские, Гильом Коншский, Жильбер Порретанский (он создал собственную философскую школу, а потом уехал в Пуатье епископом). Что там стало потом — неизвестно, что-то преподавалось, но ничего по-настоящему яркого не было. У этих магистров учились люди, которые потом по всей Европе подвизались кто в науке, кто в политике. Бернард Сильвестр и Гильом не были клириками, другие — были. Однако клирик клирику рознь, психология и литературное, духовное кредо монаха и епископа могли сильно отличаться. В общем, по мне, Шартрская школа не институт по передаче знаний, а скорее круг ценителей литературы, то, что Брайан Сток называл «textual community», то есть группа умных читателей и писателей, формирующаяся вокруг нескольких древних текстов, которыми они обмениваются, которые ценят и комментируют. И за этими текстами стоят какие-то идеи. К уже упомянутым «Тимею» и «Асклепию» надо еще прибавить только что появившиеся тогда астрологические тексты, переведенные с арабского, и римскую классику: Ювенала, Марциала, Горация, Овидия, Вергилия. Вряд ли больше. И еще — то, чем они занимались, было наукой о природе: они пытались постичь природу и с помощью ее описания, каталогизации приблизиться к познанию Бога. Шартрцы уже знали логику и немного этики Аристотеля, но не его физику и метафизику. Их природа еще не эмпирия, не опытное знание о природе, их знание во многом литературное, мифопоэтическое. Из «Естественной истории» Плиния они преспокойно заимствовали как эмпирические сведения о всякой земной твари, так и привязанные к любой из них поверия, развлекавшие римлянина I века. Вышла довольно творческая, своеобразная энциклопедия мироздания, но энциклопедия глубоко литературная, а не строго натурфилософская.
У вас очень личное отношение к этим людям и текстам, хотя они очень далеки от нас, и культурно, и хронологически. Судя по всему, выход «Шартрской школы» — важный этап в вашей жизни?
Да, ведь мои по сути доморощенные переводческие опыты вылились наконец во что-то определенное. Это первый момент. А второй — появление словосочетания «Шартрская школа» именно в «Литературных памятниках» фиксирует дорогую мне самому мысль, что это все-таки литературно-философское явление. И в таком составе, и к тому же в переводах размером оригинала, эти тексты ни на одном языке в мире не появлялись. У меня на полках стоят тоненькие книжечки — наиболее яркие фрагменты переводят добротной прозой. Алан Лилльский и Бернард Сильвестр оказываются обычно где-то «в прицепе», потому что они в Шартре вроде как не преподавали. Но реальной рецепции этих текстов нет нигде, даже во Франции. Я попытался в сопроводительной статье объяснить, почему, на мой взгляд, эти тексты следовало объединить, ведь их авторы объединены «шартрским стилем мышления». Вместе с грамматикой, риторикой и натурфилософией передавалась и система ценностей, уважение, чувство такта по отношению к далекому прошлому. Если ты видишь какое-то странное имя в «Энеиде», задумайся, что оно значит. Поэтому в середине книги самый большой текст — это комментарий на «Энеиду» Вергилия.
Довольно беспрецедентная вещь, как я понимаю, — ведь таких комментариев было написано немало, но у нас ими никто словно бы не занимается.
С Вергилием в России вообще проблема: иные переводы скорее отпугивают, чем привлекают. У нас нет, насколько я знаю, издания «Энеиды» с приличным комментарием. Гаспаров (кажется, в «Записях и выписках») объясняет, что ему хотелось рассказывать людям про великих римских и древнегреческих поэтов, писателей, поэтому он писал предисловия и переводил — но Гаспаров перевел «Науку любви» Овидия, «Искусство поэзии» Горация, много чего еще, и его комментарии прекрасны, пусть и лаконичны, но он не перевел Вергилия. Если взять «Энеиду», там на четыреста страниц текста тридцать страниц комментария. Исследователей, конечно, ограничивают издательства, потому что никому неохота тратить на это деньги, и как раз «Литпамятники» почти всегда были исключением. А если нет хорошего комментария, то нет и настоящей рецепции, нет «классики».

Неизвестный скульптор. Вергилий в кресле. 1215 год, Мантуя, Палаццо Сан-Себастьяно
Фото: beniculturali.it
Естественно, древние комментарии к «Энеиде» никогда не переводились, а Бернард Сильвестр создал самый большой средневековый комментарий к ней, хотя и трактует в основном шестую книгу. Мне кажется, что если мы когда-нибудь дойдем до приличного издания «Божественной комедии» Данте, то и перевод текста Бернарда нам поможет — не только потому, что Данте, скорее всего, знал его комментарий, но и потому, что мы поймем, какими глазами величайший средневековый поэт мог смотреть на авторитетный текст, как он вчитывался в слова, как он размышлял над соотношением формы слова и содержания, которое стоит за этим словом. Средневековый интеллектуал умел создавать из слов собственный космос, поэтому хотелось, чтобы в нашем «Литпамятнике» были представлены разные формы литературного мышления и литературного творчества Ренессанса XII века: комментарий на авторитетный, но не божественный текст, комментарий на авторитетный и божественный текст, философский трактат Гильома Коншского и литературная обработка философских идей. Это, собственно, и есть «Шартрская школа».
А насколько вообще «Энеида» или «Тимей» были доступны и понятны авторам того времени?
«Тимей» Платона шартрцы знали примерно наполовину, в продуманном, но отчасти христианизированном переводе и комментарии Халкидия начала IV века н. э. «Менона» и «Федона» перевели на Сицилии в середине XII века, но переводы не вышли дальше Сицилийского королевства. Но эта самая половина «Тимея», даже лишенная рассказа о человеке, была для интеллектуалов того времени живым миром, они хорошо ее понимали, особенно в Шартре. Гильом Коншский его комментировал. Знали также «Асклепия», приписывавшегося Гермесу Трисмегисту, он сохранился только на латыни. В чем-то «Асклепий» очень созвучен христианству, но, с другой стороны, там разные боги, и все они любят друг друга. «Космография» Бернарда Сильвестра во многом вдохновлена именно этим удивительным трактатом.
Церковь такое не очень одобряла, наверное, — Трисмегист, Платон?
«Космографию» читали даже папе римскому, о чем сохранилась пометка в хорошей оксфордской рукописи XII века: «Зачитано папе Евгению, чтобы снискать его благоволение». И благословение, скорее всего, было дано. Кроме того, читающая на латыни публика состояла по большей части из клириков. Раз такая смелая литература создавалась, значит клир готов был ее принимать. Ведь и совсем не христианских Гермеса и Платона, Аристотеля и даже арабскую астрологию читали епископы, архиепископы, а может, и понтифики. Это и есть Ренессанс XII века: шартрцы могли так читать «Тимея», что у них он оставался «Тимеем», пусть и предвещал, с их точки зрения, какие-то христианские догматы.
Интересно, что околоцерковных авторов следующего, XIII века, уже довольно сложно представить себе в «Литпамятниках», а шартрцев или Хильдегарду Бингенскую — вполне.
Мне кажется, что в XII веке возможность литературной обработки строго дискурсивной мысли была более ощутима, чем в XIII веке. Зрелая схоластика потому и «зрелая», что не нуждается в литературных условностях и иносказаниях для поиска истины. Это, однако, не означает, что ей нет места в литературе: «Роман о розе» очень много взял из схоластического стиля мышления благодаря его второму автору — Жану де Мену. Но граф Фома Аквинский ничего не взял бы из «Романа о розе», хотя и писал поэзию. «Божественная комедия» зачастую говорит на языке философии и теологии своего времени, Данте для решения разных задач использовал то итальянский, то латынь. Можно сопоставлять схоластический стиль мышления с итальянской поэзией XIII века, можно в лекциях по праву на латыни в XIII веке находить удивительные литературные сюжеты: лектор Роффредо из Беневенто красочно описывает юридические казусы — чем не литература? Он искал успеха у слушателей, это нормально. Наконец, Раймунд Луллий был поэтом, проповедником и философом масштаба Данте (а в «Литпамятниках» вышел только маленький и не слишком репрезентативный томик!).
Вообще около- или внутрицерковность того или иного автора зрелого Средневековья — категория не всегда четкая. Как не ясна и грань между литературой и не-литературой и в Средние века, и в иные эпохи. Не все же согласны, что Алексиевич или Боб Дилан — «художественная» литература или «изящная» словесность. Однако — словесность! И Нобелевский комитет это оценил. По счастью, редколлегия «Литературных памятников» мыслит в этом плане тоже достаточно широко, и это вселяет в меня некоторые надежды на будущее.
Занимаетесь ли вы сейчас какими-то еще переводами?
Моя мечта — комментарий к Данте. Сейчас я хожу на семинар Ольги Седаковой, где мы, человек десять, под ее руководством, переводим и комментируем «Комедию». Естественно, мы не соревнуемся с Лозинским, чей перевод сам давно стал памятником в лучшем смысле этого слова. Но, как всякий поэтический перевод, он многое забирает и полноценного понимания «Комедии» дать не может. Например, у Данте «Рай» начинается со слова gloria — «слава», а заканчивается словом amor — «любовь». Понятно, что оба перекликаются, обращаясь к Богу, указывая на Его предикаты, превращающиеся в поэтическом слове в движущие силы вселенной. Но gloria у Лозинского превращается в намного менее выразительные «лучи», потому что ему нужно было ударение на втором слоге. Потеря очевидна. Мы никуда не спешим и не ставим перед собой никаких иных целей, кроме совместного размышления над величайшим текстом европейской литературы, хотя и мечтаем о каком-то новом издании, которое действительно познакомило бы соотечественников с нашим любимым текстом. Я многому учусь у Ольги Седаковой, поэта, переводчика и ученого, у коллег по этой работе. Видимо, я попал в textual comunity сродни моему Шартру, так мне хочется думать. Мне хотелось бы заново перевести «Историю моих бедствий» Абеляра и его переписку с Элоизой, «Дидаскаликон» Гуго Сен-Викторского, «Императорские досуги» Гервазия Тильберийского, «Энтетик» Иоанна Солсберийского, «Мораль на сон фараона» Иоанна Лиможского. Еще я мечтаю об антологиях средневековой латинской поэзии и средневековых писем. Глядишь, к концу жизни что-то пойму и напишу историю средневековой латинской словесности. Si Deus voluerit…
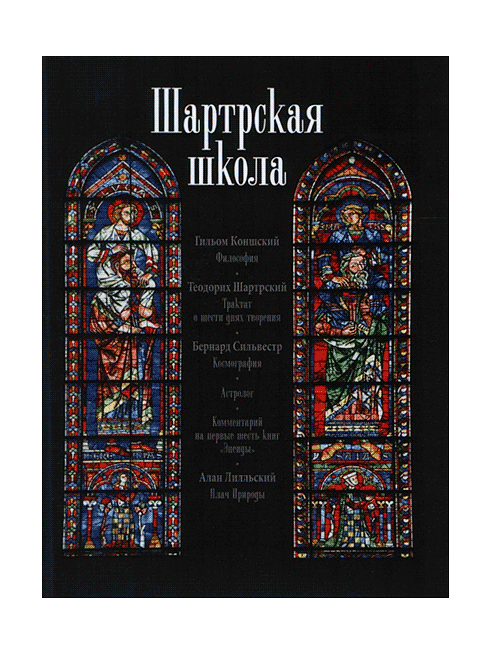
Фото: издательство «Наука»