Реальнее самой реальности. Памяти Владислава Крапивина
О личном опыте столкновения с текстами писателя рассказывает поэт Даниил Да
Мне сложно сказать что-то о книгах Крапивина сейчас, точнее — я не должен о них говорить. В крапивинский мир людям старше определенного возраста вход закрыт. Более того, писать о книгах Крапивина взрослый человек не имеет права — это не для него и не про него. В противном случае получается образцовая гадость, темный шкаф интерпретатора, из глубины которого ползут на карачках самодельные психоаналитические уродцы. Если вас не озарял нестерпимый свет этих книг, вы ничего в них не увидите и не поймете.
Меня в свое время пронзила «Голубятня на желтой поляне». Не помню, как к нам в дом попал журнал «Уральский следопыт» — скорее всего, его выписывал кто-то из соседей. В СССР, если забыли или не знаете, был книжный голод и многие узкопрофильные журналы выписывались ради многосерийных, растягивавшихся иной раз на несколько лет, публикаций романов и повестей. Наша семья, например, выписывала среди прочих журнал «Химия и жизнь», где между статей про память облученных полимеров и новые способы огнезащиты мягкой мебели затесался роман Клиффорда Саймака. Не знаю, что в шесть лет вставляло сильнее: безумные обложки Гарифа Басырова, психоделический текст Саймака или статьи, которые непонятно почему нравилось читать, хотя понятными их назвать было сложно. Все вместе это оказывало сильнейшее комплексное воздействие. Не менее сильно торкнул и «Уральский следопыт», в рубрике которого «Мой друг фантастика» в марте 1983 года началась публикация главного, на мой взгляд, крапивинского произведения — трилогии «Голубятня на желтой поляне».
То, что это именно трилогия, стало ясно много позже. До этого я был знаком только с «пионерским» Крапивиным — за год до «Голубятни» в журнале «Пионер» печатался роман ВК «Журавленок и молнии», вещь весьма болезненная, особенно для тех, кто рос в неполных семьях или был книжным задротом вроде меня, не знавшим, как мне тогда казалось, настоящей мальчишеской дружбы. У многих книг Крапивина есть такая властная особенность — они реальнее самой реальности, так что интенсивность чувств, испытываемых персонажами, способна ввести в кому. Отдельно меня вставляли иллюстрации художника Медведева — вроде бы позитивные, с округлыми мягкими линиями, но тоже несущие в себе заряд едва ощутимой тревоги.
«Голубятня» же не просто захватила — я моментально и бесповоротно туда выпал. И остался там, наверное, до сих пор. Я не могу сформулировать, что меня держит там, хотя много раз пытался это сделать. Это, пожалуй, единственный текст, вызывающий у меня абсолютную синестезию — смешение всех чувств. Конец лета или самое начало осени. Небольшой провинциальный городок, в котором ты никогда не был, но который знаком как сновидение: ты все там знаешь и помнишь. Запах нагретых досок, речной отмели. Невидимая угроза, вибрирующей тучей нависшая над старой башней. Все, что растянулось в этих описаниях на четыре строки, во мне живет одновременно — где-то в переносице. И в сердце, конечно.
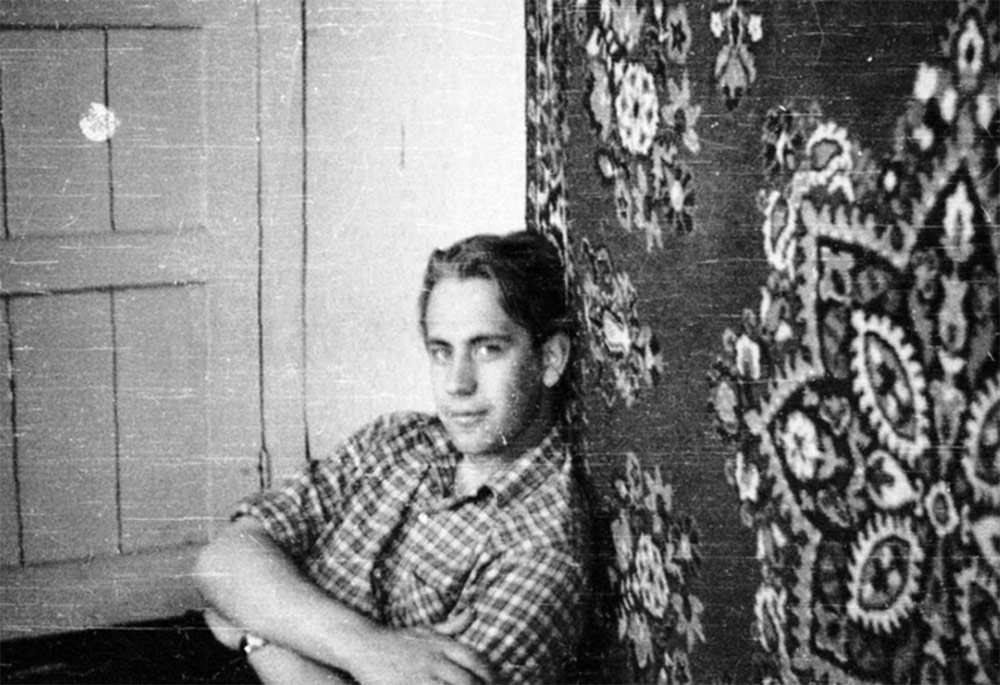 К середине 1980-х Союз начал ощутимо подгнивать, и Крапивин, видимо, интуитивно зацепил эти вибрации. Зловещее нашествие непонятно чего, люди, оказывающиеся манекенами, и манекены, притворяющиеся людьми, уютный, набитый песком Бормотунчик, говорящий загадками и срабатывающий всего раз, и чудовищный финал, за которым стояло набранное прописными буквами «Продолжение следует». А продолжения-то и не было. Бог знает, как попал в наш южный городок этот номер «Уральского следопыта».
К середине 1980-х Союз начал ощутимо подгнивать, и Крапивин, видимо, интуитивно зацепил эти вибрации. Зловещее нашествие непонятно чего, люди, оказывающиеся манекенами, и манекены, притворяющиеся людьми, уютный, набитый песком Бормотунчик, говорящий загадками и срабатывающий всего раз, и чудовищный финал, за которым стояло набранное прописными буквами «Продолжение следует». А продолжения-то и не было. Бог знает, как попал в наш южный городок этот номер «Уральского следопыта».
И вот тут меня здорово переклинило. Судьбы героев, оставшиеся неизвестными, желтоватая пухлая бумага, фантастические и зловещие иллюстрации Стерлиговой — все это поставило меня на грань сумасшествия. Я бредил этим старым городом и был всеми героями «Голубятни» сразу. Желание узнать, что было дальше, сформировало мой досуг — после школы я день за днем обходил букинистические магазины: первый, второй, третий, четвертый. На полках журналов было много «Юного натуралиста» и «Техники молодежи», реже попадался «Вокруг света» (там тоже публиковали фантастику), «Уральского следопыта» не было вообще.
Полтора года или что-то около того я прожил в бреду. Это чувство, наверное, похоже на несчастную влюбленность. Помню, что часто я просто выл, идя по осенней набережной от букиниста на улице Конституции к букинисту на остановке «Гостиница «Кубань». Вечерами я писал Крапивину письма, понимая при этом, сколько подобных писем он получает. Не отправил ни одного.
Потом, как это часто бывает в жизни несчастных людей, случилось чудо. В подвале дома у одноклассника нашлась полная подшивка «Следопыта» за 1983 год, чуть позже в «Букинисте» во время очередного обхода я нашел номера за 1984 год (там печаталась вторая часть трилогии «Праздник лета в Старогорске»), а потом родители, видя мои страдания, выписали этот несчастный «Следопыт» на дом, так что журналы с последней частью просто попадали в почтовый ящик.
 Больше никогда мне не довелось испить такой полынной горечи. Все эти погибшие мальчишки, превращающиеся в ветерки и гуляющие по улицам пустого брошенного города, чудовищная станция Мост, которую непременно нужно взорвать, остановив бегущий по кругу поезд, самодельные заклинания и нерушимые клятвы, судьба, обреченность, надежда, непрерывный суицид — у меня, взрослого человека, до сих пор ноет сердце.
Больше никогда мне не довелось испить такой полынной горечи. Все эти погибшие мальчишки, превращающиеся в ветерки и гуляющие по улицам пустого брошенного города, чудовищная станция Мост, которую непременно нужно взорвать, остановив бегущий по кругу поезд, самодельные заклинания и нерушимые клятвы, судьба, обреченность, надежда, непрерывный суицид — у меня, взрослого человека, до сих пор ноет сердце.
Это магия? Безусловно. В том виде, в котором она могла легально появиться в СССР. Есть ли в этой яркой мальчишеской дружбе что-то порочное? Да просто плюньте себе в лицо, если мыслите о крапивинских героях в таком аспекте. Зацепят ли книжки Командора новых мальчишек? К сожалению, не уверен. Мой сын прочел книгу с уважением к рекомендациям отца, но не более того. Значит ли это, что магия крапивинских книг исчезла? Нет, не значит.
Символично, что Крапивин ушел из жизни 1 сентября. Закончилось лето, когда можно было летать над ночным городом в тополиной рубашке, впереди — школа, возвращение из отпусков и то, что принято называть трудовыми буднями. Иногда кажется, что монотонность взрослой жизни монолитна. Но это не так — ее разрушает единственный солнечный луч, пробившийся сквозь облака и листву, чтобы лечь перед тобой на подоконник желтым пятном. И, если ты все еще жив, то сразу и бесповоротно вспомнишь все, что делало тебя живым в детстве — боль, ярость и осознание того, что ты все равно выстоишь.
Легкой дороги, Владислав Петрович!