Реальная критика, панк-рок и социопатия: к 185-летию Николая Добролюбова
Как пользоваться критическими инструментами XIX века на благо сегодняшнего дня?
Золотой фонд публицистики XIX века — это клокочущая энергия и слом шаблонов. Ложась на диван с томиком Белинского, Добролюбова или Писарева, ты с первых же страниц будто попадаешь на панк-гиг, но вместо гитарного шума и вопящего вокалиста драйв нагнетают горячие обличения безнравственности и пошлости, стройные логические построения, блестящий художественный анализ и страстное желание провести ревизию авторитетов, чтобы откинуть прогнивших и омертвелых.
Если присмотреться к истории, между панк-роком и нигилизмом XIX века также можно усмотреть множество рифмовок: в мир состоявшихся и успешных врывается молодое поколение нищебродов и неудачников (Белинский, Чернышевский и Добролюбов были разночинцами, в литературе тогда правили балом дворяне), чтобы смести старые правила игры и установить свои ориентиры. Молодежь жадно вчитывается и принимает новое слово с восторгом, зарождается целая субкультура.
Нигилистов, как и панков, объединяют не только вкусы, мировоззрение и социальная принадлежность; они выделялись с помощью одежды. Девушки-нигилистки носили короткую стрижку, парни, напротив, отращивали волосы — тогда это выглядело дико, и за один внешний вид можно было загреметь в участок. В культурном поле нигилистов собирала вместе не музыка, но именно литература, транслирующая определенный набор взглядов и подходов.
Сходство есть даже в фигуре пройдохи-менеджера, который внес принципиальный вклад в формирование субкультуры: в нигилизме — Некрасов, в панке — Макларен. Ну а спустя время про оба феномена безусловно справедливо утверждать, что они «внесли огромный позитивный вклад», многие их находки и стратегии стали общепринятой классикой...
Возможно, читатель, ознакомившись с этим введением, испытает недоумение. О чем вообще речь? Как можно проводить аналогию между унылейшими текстами из школьной программы и панкухой? Почему какой-то архистариковский стиль письма именуют драйвовым? Против каких авторитетов могли выступать люди, разбирающие очевидных и общепринятых авторов типа Тургенева и Гончарова? Что еще за субкультура нигилизма и как вообще это связано с Добролюбовым?
Действительно, чтобы удостовериться в верности приведенной аналогии, необходимо определенное погружение в историю, знание культурного контекста XIX века, понимание языка, выработанное длительным чтением литературы такого рода, и проч. — то есть нужен достаточно маргинальный багаж, который читатель иметь вовсе не обязан. У меня же нет желания превращать этот текст в исторический экскурс, так что актуальность Добролюбова я буду демонстрировать иным способом, исходя из самых общих и доступных соображений.
Ключевое добролюбовское изобретение — его концепция РЕАЛЬНОЙ КРИТИКИ, она представляется разумной и удобной на все времена. По сути, Добролюбов брал некоторую систему материалистических взглядов, брал художественное произведение, а затем подробно фиксировал процесс накладывания системы на произведение, получая на выходе лишенный субъективности анализ. Иными словами, Добролюбов смешивал разноплановый научпоп с литературоведением. Научпоп помогал лучше понимать целый ряд граней произведения, но и разбор произведения служил иллюстрацией научпоп-концепций: две составляющие были подобраны для резонирования друг с другом.
В исторической перспективе Добролюбова часто рисуют как агитатора, но на деле политические выводы он давал намеками, рассчитывая, что читатель сделает их сам из проведенного научпоп-анализа: во-первых, речь идет о подцензурных текстах, где открытая агитация не приветствовалась, во-вторых, принципиальной позицией РЕАЛЬНОЙ КРИТИКИ был отказ от субъективности, эмоциональных восприятий и проч. — необходим строгий логический разбор. Поэтому сам подход — аполитичен.
 Предлагаемый симбиоз научпопа с литературой представляется идеей, со времен Добролюбова скорее набравшей актуальности, а не потерявшей ее. Плюсы очевидны: литература становится общим поводом для обсуждения, удобным фоном для дискуссии, упрощающим коммуникацию. Научпоп (будь то психология, социология, экономика, да хоть математика с одной стороны, философия, эстетика и история литературы с другой) перестает существовать в своем вакууме, находя новую твердую дорожку к читательскому вниманию. Ведь одно дело — заинтересоваться чтением книги по экономике, не имея к ней профессионального интереса, и совсем другое — рецензией на знакомое литературное произведение, в которой обнаружится полезная и расширяющая кругозор научпоп-информация.
Предлагаемый симбиоз научпопа с литературой представляется идеей, со времен Добролюбова скорее набравшей актуальности, а не потерявшей ее. Плюсы очевидны: литература становится общим поводом для обсуждения, удобным фоном для дискуссии, упрощающим коммуникацию. Научпоп (будь то психология, социология, экономика, да хоть математика с одной стороны, философия, эстетика и история литературы с другой) перестает существовать в своем вакууме, находя новую твердую дорожку к читательскому вниманию. Ведь одно дело — заинтересоваться чтением книги по экономике, не имея к ней профессионального интереса, и совсем другое — рецензией на знакомое литературное произведение, в которой обнаружится полезная и расширяющая кругозор научпоп-информация.
В общем, вместо дурацкого разделения и неудобного обособления областей мы получаем прекрасное объединение. Выигрывает от этого и литературоведение, освоившее навык работы с объективным материалистическим аппаратом — помимо отвлеченных заоблачных сфер и оторванных от жизни теорий. Не могу сказать, чтобы РЕАЛЬНЫХ элементов в современной критике мне совсем не попадалось, но и, скажем, практикующего психолога, популяризующего свою науку путем разбора литературных художеств, мне встречать не доводилось.
Психолога я упомянул не случайно. По счастливому совпадению во время продумывания этой статьи я параллельно прочитал одну книгу такого рода: психологический научпоп «Социопат по соседству. Люди без совести против нас. Как распознать и противостоять» за авторством некоей Марии СТАУТ. Хотя некоторые моменты книги мне показались спорными вплоть до возмутительности — иные детали были исключительно ценными; но главное, что книга идеально подошла мне как иллюстрация для настоящей статьи. Чтобы объяснить суть иллюстрирования, расскажу, о чем же книга.
Концепция Стаут такова: она определяет социопатов (не путать с социофобами) как людей без совести, либо людей без любви, либо, более практично, людей, которые получают удовольствие/удовлетворение и не испытывают раскаяния, нанося вред или гадя другим людям. В отдельных ситуациях так могут себя вести и несоциопаты, но лишь от раза к разу, в то время как для социопатов именно такое отношение к окружающим является нормой, определяющей их жизненную стратегию — что приводит к постоянным попыткам доминировать, лжи, манипуляциям, стравливанию людей, обесцениванию их достижений и проч. Длительный контакт с социопатом наносит серьезный вред окружающим, что рано или поздно оборачивается против самого социопата. Книга призвана помочь нивелировать вред, нанесенный в конкретной ситуации, — Стаут является практикующим психологом и лечит людей от последствий близких контактов такого рода (именно узостью авторского опыта и объясняется чрезвычайная однобокость книги). Для иллюстрации общих размышлений в книге Стаут приводятся конкретные истории из практики. Одну такую историю перескажу подробнее:
Женщина № 1 работает в психиатрической клинике и завидует женщине № 2, поскольку та добивается успехов в работе и у нее намечается карьерный рост. У женщины № 2 есть важный показательный тяжелый пациент, который идет на поправку. Женщина № 1 встречает этого пациента в клинике, и пациент хвастает тем, что его врач (женщина № 2) сказала, что он вскоре будет выписан, т. к. ему становится лучше. Женщина № 1 заявляет пациенту, что на самом деле врач соврала ему, и старается внушить окружающим, что пациент неизлечим и останется тут навечно. Это шокирует пациента, он чувствует себя обманутым и глубоко оскорбленным, наступает истерика, и женщина № 1 вызывает охранников, чтобы пациента скрутили и отправили в тяжелое отделение. Доверие между пациентом и его врачом подорвано, показания пациента с обострением звучат как бред, так что виновника ситуации установить невозможно. Таким образом, врачебный авторитет женщины № 2 подорван, а женщина № 1 получила удовлетворение от своих действий, не испытывая никаких переживаний по поводу серьезно пострадавшего из-за нее пациента. «Пациент сам виноват в том, что у него расшатана психика, а женщина № 2 пользовалась незаслуженным успехом, так что я лишь восстановила справедливость», — что-то подобное происходит в голове у женщины № 1. Так Стаут рисует один из вариантов поведения социопата. Женщина № 1 поступает таким образом систематически, багаж подобных спорных случаев накапливается, и, несмотря на все ее мастерство в интригах и бесстыдство, со временем ее выводят на чистую воду и изобличают, после чего с позором выгоняют из клиники.
 Эта история показалась мне прямо-таки поразительно знакомой! После чтения этой сценки меня буквально захлестнули литературные ассоциации и воспоминания. Например, аналогичное поведение демонстрирует главный герой блестящей повести Надежды Хвощинской «Первая борьба», написанной в 1869 году. Как известно, после периода недолговременной либерализации, наступившей при Александре I, царь быстренько начал сворачивать свои сомнительные реформы, сажать и закручивать. Образ этого времени и запечатлен в повести Надежды Дмитриевны (извиняюсь за возможные неточности, детали могли смазаться в толщах памяти): в семье небогатых нравственных людей демократических воззрений растет ребенок, активно не разделяющий взгляды своих близких. Задавшись целью прийти к материальному успеху, он по ходу взросления начинает шаг за шагом прикидываться, льстить и подмазываться к окружающим, постепенно проникая в нужное общество, где соблазняет богатенькую женщину, женится на ней, прибирает ее средства к рукам и бросает жену ради последующей карьеры... Так он побеждает в своей ПЕРВОЙ БОРЬБЕ, планируя множество дальнейших подобных эпизодов. Близкие же от его действий приходят в тихий или активный ужас, но что-либо изменить бессильны.
Эта история показалась мне прямо-таки поразительно знакомой! После чтения этой сценки меня буквально захлестнули литературные ассоциации и воспоминания. Например, аналогичное поведение демонстрирует главный герой блестящей повести Надежды Хвощинской «Первая борьба», написанной в 1869 году. Как известно, после периода недолговременной либерализации, наступившей при Александре I, царь быстренько начал сворачивать свои сомнительные реформы, сажать и закручивать. Образ этого времени и запечатлен в повести Надежды Дмитриевны (извиняюсь за возможные неточности, детали могли смазаться в толщах памяти): в семье небогатых нравственных людей демократических воззрений растет ребенок, активно не разделяющий взгляды своих близких. Задавшись целью прийти к материальному успеху, он по ходу взросления начинает шаг за шагом прикидываться, льстить и подмазываться к окружающим, постепенно проникая в нужное общество, где соблазняет богатенькую женщину, женится на ней, прибирает ее средства к рукам и бросает жену ради последующей карьеры... Так он побеждает в своей ПЕРВОЙ БОРЬБЕ, планируя множество дальнейших подобных эпизодов. Близкие же от его действий приходят в тихий или активный ужас, но что-либо изменить бессильны.
Схема поведения персонажа Хвощинской и описанная Стаут модель кажутся не просто схожими, но буквально тождественными, что и ставит Стаут в положение, из которого ей было бы чрезвычайно удобно перейти к современной РЕАЛЬНОЙ КРИТИКЕ, продолжив дело Добролюбова. При этом хотелось бы уточнить. Во-первых, иллюстрируя свои психологические концепции, Стаут могла бы просто сослаться на Хвощинскую, дав краткий комментированный пересказ ее повести, — при желании читатель самостоятельно прочитал бы ее и ознакомился с персонажем-социопатом с большими подробностями и детализацией, чем могла бы позволить себе Стаут.
Во-вторых, Стаут могла бы, исходя из собственного длительного опыта работы, оценить верность отдельных штрихов характера, нарисованного Хвощинской, — и либо подтвердить их подлинность, либо отметить их сомнительность. Вероятно, после такого разбора выяснилось бы, что Хвощинская обладала замечательным интуитивным знанием человеческой души.
В-третьих, наконец, Стаут могла бы уточнить и прокомментировать глобальный замысел повести Хвощинской (если предположить, что она достаточно знакома с историей России XIX века). Думаю, и тут «Первая борьба» только выиграла бы, оказавшись чем-то вроде точной метафоры на тему: ЦАРЬ ОБЪЯВИЛ ВРЕМЯ РЕАКЦИИ. СОЦИОПАТЫ ПРОСЫПАЮТСЯ И ВЫХОДЯТ НА ОХОТУ.
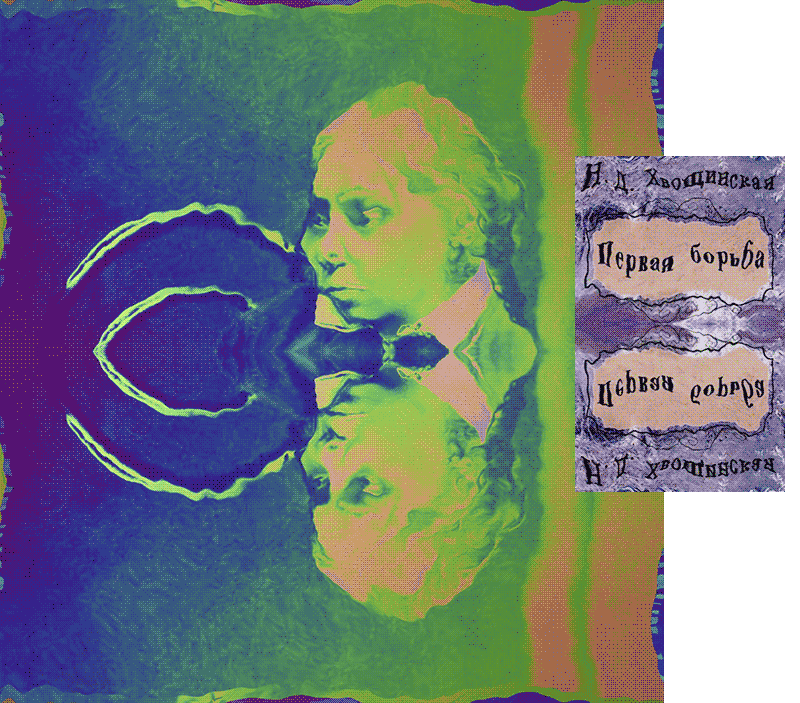 Приведенная схема поведения социопата — не единственная в книге Стаут, она дает несколько значительно различающихся вариантов, так что РЕАЛЬНАЯ КРИТИКА открыла бы Стаут доступ к огромному пространству литературных произведений, великолепно подходящих для иллюстрирования ее поп-психологических концепций. Конкретный выбор зависел бы только от области ее литературных интересов!
Приведенная схема поведения социопата — не единственная в книге Стаут, она дает несколько значительно различающихся вариантов, так что РЕАЛЬНАЯ КРИТИКА открыла бы Стаут доступ к огромному пространству литературных произведений, великолепно подходящих для иллюстрирования ее поп-психологических концепций. Конкретный выбор зависел бы только от области ее литературных интересов!
Например, Стаут предпочла бы углубиться подальше в прошлое, в XVIII век? Несколько покумекав, можно было бы предложить ей характер Вадима Новгородского из одноименной пьесы Якова Княжнина.
А может, ей бы так понравилась Надежда Хвощинская, что она захотела бы разобрать что-нибудь из схожего лагеря? Тут на ум приходит рассказ «Страдалец» Константина Станюковича, описывающий логику поступков проворовавшегося банкира, сосланного в Сибирь. Тот не раскаивается, но лишь сожалеет, что попался на воровстве, и обвиняет обвиняющих его людей в лицемерии: ведь непойманные воры продолжают ворочать миллионами и пользоваться полным общественным уважением и восхищением (дальнейшие действия этого персонажа-банкира раскрыты Станюковичем в романе «В места не столь отдаленные» (1887); очевидно, что интуитивно Станюкович прекрасно понимал описанное Стаут).
Но может, она захотела бы ограничиться школьной литературой? Давайте предложим ей проанализировать центральную фигуру «Героя нашего времени», Печорина. Разбор столь важного для русской литературы типажа оказался бы крайне полезным. Или — современной литературой? Думаю, тут она могла бы поразмышлять над богатством автобиографической прозы Эдуарда Лимонова, в открытую призывающего к отказу от привычной морали.
Но может, Стаут по каким-то причинам не пожелала бы обращаться к русской литературе и удовольствовалась бы западной? Хорошо, тут нам подойдет Стирпайк из классической трилогии «Горменгаст» Мервина Пика.
Наконец, может, Стаут пожелала бы вскрыть корявость голливудских хитов? Тогда на примере фильма «Джокер» она могла бы показать, что превращение забитого героя в духе Акакия Акакиевича в хладнокровного бессовестного убийцу психологически невозможно (хотя, конечно, поп-культура представляется худшим выбором для таких разборов).
Думаю, этих примеров будет достаточно, чтобы показать современную пользу РЕАЛЬНОЙ КРИТИКИ и для читателей, и для потенциальных авторов, и даже с общих позиций литературоведения — произведение становится понятнее, когда понимаешь, ЧТО в нем описано. Аналогичные примеры можно было бы подобрать не только для конкретной книги Стаут, но и для любой другой поп-психологии, да и вообще — не только для психологии, но и для любой другой гуманитарной науки, да и вообще — не только для гуманитарной науки, но и для некоторых технических — да и вообще, разбирать с реальных позиций можно не только литературу, претендующую на реализм, но и любой модернизм, и любой постмодернизм — главное, выбрать нужный угол зрения, подходящий под конкретную науку.
На этом моменте хотелось бы остановиться и отметить, что все изложенное — это сложный вариант, попытка не терять добролюбовской высоты РЕАЛЬНОЙ КРИТИКИ, предполагающей серьезное, объемное и вдумчивое чтение, способствующее самостоятельному осознанию окружающей жизни. Прямая политическая агитация не является необходимым критерием РЕАЛЬНОЙ КРИТИКИ, чья суть заключена в ее названии: слово «реальный» здесь используется в том же смысле, что в словосочетаниях «реальная гимназия» и «реальное образование» — им противостоит «классическое образование»: по сути, РЕАЛЬНЫЙ попросту оказывается синонимом НАУЧПОПА.
Упрощенный же вариант общеизвестен: например, добролюбовскими приемами активнейшим образом пользуется популярный блогер Евгений БЭДКОМЕДИАН Баженов; только вместо радикального разночинства он предлагает позиции либерального разночинства, вместо эмоционального накала и увеличения художественности текста — стендап-шуточки и клиповый монтаж; но в центре все же остается использование научпоп-знаний и логики, апеллирование к здравому смыслу зрителя. Вероятно, сам Добролюбов отрекся бы от такого последователя в силу недостаточной политической радикальности последнего, но факта их родства такое отречение бы не отменило. Добролюбовские методики дают невиданные всходы!
 P. S. Волею случая моя праздничная заметка оказалась опубликована рядом с бойкой статьей на схожую тему: «Похоронить Белинского» авторства Алексея Любжина. Сам факт соседства в одном издании столь разных текстов кажется мне положительным, но один из тезисов Алексея настолько прямо противоречит сказанному мной, что читатель обоих материалов, вероятно, испытает недоумение: одним из принципов РЕАЛЬНОЙ КРИТИКИ назван разбор произведения как факта объективного, в то время как Алексей утверждает: «Ни один писатель не имеет дела с жизнью, кроме как с жизнью своего ума и своей души. Реальность преломляется в нем — и продукте, и части, и творце жизни — индивидуально и прихотливо. Если критику или кому-либо еще кажется, что в книге присутствует „жизнь как она есть“, это значит только одно: отображение жизни в душе читателя совпадает с отображением жизни в душе писателя, в восприятии того же самого читателя; здесь мы имеем дело с искажением на одной стороне и с двумя этапами искажения — на другой».
P. S. Волею случая моя праздничная заметка оказалась опубликована рядом с бойкой статьей на схожую тему: «Похоронить Белинского» авторства Алексея Любжина. Сам факт соседства в одном издании столь разных текстов кажется мне положительным, но один из тезисов Алексея настолько прямо противоречит сказанному мной, что читатель обоих материалов, вероятно, испытает недоумение: одним из принципов РЕАЛЬНОЙ КРИТИКИ назван разбор произведения как факта объективного, в то время как Алексей утверждает: «Ни один писатель не имеет дела с жизнью, кроме как с жизнью своего ума и своей души. Реальность преломляется в нем — и продукте, и части, и творце жизни — индивидуально и прихотливо. Если критику или кому-либо еще кажется, что в книге присутствует „жизнь как она есть“, это значит только одно: отображение жизни в душе читателя совпадает с отображением жизни в душе писателя, в восприятии того же самого читателя; здесь мы имеем дело с искажением на одной стороне и с двумя этапами искажения — на другой».
В качестве контрпримера я хотел бы привести следующую иллюстрацию: если мы положим на стол куб и шар — и попросим добрый десяток художников-реалистов нарисовать увиденное, то в результате на каждой из картин мы увидим куб и шар. Пусть каждый художник-реалист обладает ярчайшей индивидуальностью и авторским почерком, пусть все картины будут не похожи друг на друга — все же на каждой предстанут именно куб и шар. Этот контрпример совсем тривиальный, на деле же объем информации, сохраняющийся независимо от писательской оптики, оказывается значительно более глубоким и сложным.
Далее Алексей говорит: «Для того чтобы судить о жизни по литературе, нужно провести весьма сложную работу: составить по совокупности свидетельств насколько возможно адекватное представление об этой жизни, сравнить с ее отображением и понять характер писательской оптики, закономерности его искажений. Но это слишком трудоемкий и ненужный путь, потому что его непременное условие — что о жизни мы уже знаем».
На деле выходит, что разбираться в искажениях излишне, а вот составить представление об окружающей жизни человеку, желающему заняться РЕАЛЬНОЙ КРИТИКОЙ, действительно придется — но такая критика будет крайне нужным занятием, потому что именно таким образом человек сможет поделиться с читателем своими знаниями, сделав это весомо, аргументированно и с удобством. При этом, конечно, нет никакой речи о том, что РЕАЛЬНАЯ КРИТИКА — это единственный возможный вариант литературной критики, что любая другая критика не нужна и проч. Но именно продолжателей дела Белинского, Добролюбова и Писарева сейчас остро не хватает! Ну а самого Добролюбова и Ко увлекательно читать и перечитывать хотя бы потому, что он не только сформулировал принцип РЕАЛЬНОЙ КРИТИКИ, но и дал ее блестящие ограненные образчики.