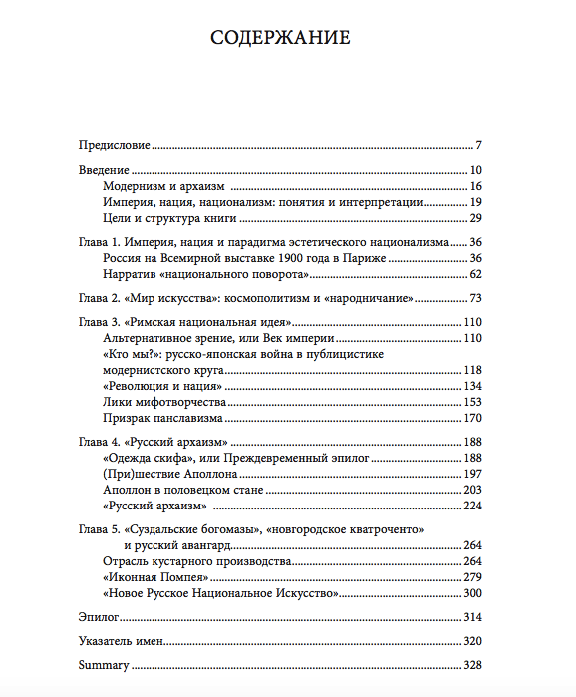«Расцвет культурного национализма в России оказался отложенным»
Нациестроительство, изобретение традиции, архаизм и русский модернизм

Ирина Шевеленко
Профессор славянских языков и литературы Висконсинского университета в Мэдисоне
Модернизм и идеология
Мои исследовательские интересы всегда были связаны, прежде всего, с русским модернизмом, с его поэтикой, эстетикой, а также с идеологическим фоном (в широком смысле этого слова, то есть с историей идей). Моя первая книга вышла пятнадцать лет назад, и это достаточно традиционное по своим задачам описание литературного пути Цветаевой. «Традиционное» в том смысле, что существует богатая традиция аналитических описаний, в центр которых помещается один автор. Ряд установок в этой книге были, однако, новыми. Раньше исследователи, сознательно или нет, помещали авторов той эпохи в «свой» контекст — шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годов, то есть позднего советского периода, когда шло открытие «начала века» (как ту эпоху было тогда принято называть). Мне же было важно вернуть Цветаеву в контекст ее собственной эпохи, посмотреть на то, как воспринимали ее творчество современники, и отталкиваться в своем анализе от этого восприятия. В процессе я поняла, что многие вопросы, возникавшие у меня в связи с творчеством Цветаевой и других авторов этого времени, были вопросами к их историческому и идеологическому контексту, который в послесталинской и позднесоветской рецепции их произведений игнорировался. Насколько могла, я постаралась в той книге показать эти контексты. Сегодня — и это то, что я почувствовала, работая над новой книгой, — есть ощущение иной, большей исторической дистанции по отношению к эпохе модернизма. Эта дистанция сформирована и естественным ходом времени, и опытом постсоветского периода, как бы отодвинувшего от нас еще дальше поздний имперский период. Зато внутри той далекой эпохи мы теперь лучше видим связи, которых прежде не замечали или на которых не сосредотачивали внимания. Например, связи между эстетическими программами и практиками с одной стороны и полем политики или идейной историей начала прошлого века с другой были плохо отрефлексированы в шестидесятые или семидесятые годы. Мне кажется, многие важные вопросы в исследованиях эпохи модернизма связаны в последнее время с потребностью прояснить зависимость художественных поисков и эстетической рефлексии от разных внеэстетических полей (политики, истории идей, истории науки и пр.), с выяснением того, каким образом художник может актуализировать эти поля в рамках художественного высказывания. Такой тип исследования не может помещать в центр отдельных авторов; скорее, авторы проходят один за другим через ту зону интереса, которую очерчивает себе исследователь.
Рождение культурного национализма в России
В моей новой книге речь идет об одном из ярких аспектов истории экспериментального искусства в России начала XX века: о роли модернизма как агента культурного национализма, «переизобретающего» современную русскую эстетическую традицию как независимую от Запада, как укорененную в архаической — народной, допетровской — эстетике. Основной материал, который анализируется в книге, — это именно авторефлексия представителей художественной среды той эпохи (писателей, художников, композиторов, эссеистов, публицистов, критиков) по поводу обращения к архаическому в том его изводе, который связан с воображаемым «национальным прошлым».
Культурный национализм — очень широкое европейское явление. XIX век — это вообще время складывания разных европейских национализмов (в нейтральном смысле этого слова), а одна из идей, которую приносит национализм, это идея консолидации или гомогенизации общества в рамках существующих политических границ. Правда, далеко не у всех протонациональных образований в Европе на заре «эпохи национализма» есть политическая независимость или политическое единство; далеко не все, соответственно, могут формироваться как политические нации. В этом случае куда большее значение приобретает понятие культурной общности. Но и в рамках политического проекта нации культурный национализм играет важную роль. Об этом существует обширная литература, показывающая, что само это явление идет от эпохи романтизма, которая одновременно есть эпоха больших изменений во внутреннем устройстве европейских социумов. Тогда начинает складываться представление о «национальной культуре» как воплощении национальной уникальности, записываются мифы и сказки, кодифицируются национальные языки, языковая норма. На этом фоне развивается система образования, охватывающая все более широкие слои населения; через систему образования общее знание о «национальной культуре» транслируется разным слоям населения. То есть создается платформа, которая в какой-то степени объединяет разные сословия, может объединить разные слои вокруг общего политического проекта или вокруг надежд на него в будущем. То есть проект культурный является одним из важных инструментов объединения, создания того, что Бенедикт Андерсон называет «воображаемым сообществом» (нацией). Если в XVIII веке культурное единство между элитами разных европейских народов было большой ценностью, то к концу XIX века национально особенное — то, что связывает элиты с другими сословиями внутри нации — становится важнейшей ценностью. Космополитичные интересы элит, конечно, продолжают существовать, но в публичном пространстве педалируется национальное. Я посвятила первую главу книги Всемирной выставке 1900 года в Париже, чтоб показать, как это происходит и как выглядит Россия на фоне других европейских держав с точки зрения способов демонстрации своей национальной уникальности.
Россия входит в «эпоху национализма» со своеобразным багажом. На пороге этой эпохи в России резко меняется культурная ориентация высших классов, происходит то, что мы называем европеизацией. Она приносит разрыв с предшествующей традицией, который внутри образованного сообщества понимается примерно так: у нас нет никакой «своей» предшествующей традиции, мы как культурное сообщество родились вместе с петровскими реформами, а наше прошлое — это прошлое европейских культур, особенно французской и немецкой. Скажем, немецкий романтизм педалирует собственные народные корни; русские романтики пытаются двигаться в том же направлении — писать сказки, собирать песни, но далеко дело не идет. Петр Киреевский, важный деятель этого поколения, готовит собрание народных песен, однако оно публикуется уже после его смерти, в шестидесятые годы, в пореформенной России, и даже в то время оно не вызывает немедленного интереса. Поэма Пушкина «Руслан и Людмила» имела некоторый успех, но устойчивой традиции романтической «народности» не создала. Для русских поэтов-романтиков было естественным, например, взять сюжет из немецкой поэзии или фольклора и написать на него балладу, а русские фольклорные источники не казались такими уж подходящими для этой цели.
Таким образом, расцвет культурного национализма в России оказался отложенным по сравнению с западноевропейскими странами. Лишь эпоха Великих реформ дала настоящий импульс для него. Потому что с освобождением крестьян появились предпосылки для того, чтобы вообразить «народ-нацию» как нечто единое. Ведь невозможно мечтать о культурном единстве хозяев и рабов. После освобождения крестьян, напротив, быстро начинается рост интереса к традициям крестьянства как важному элементу той самой искомой, объединяющей сословия «национальной культуры». Крестьянство концептуализируется как среда, в которой сохранились допетровские традиции, утраченные образованным классом. Возникают инициативы со стороны государства по актуализации этих традиций, начинается насаждение так называемого «русского стиля». Более всего этот процесс ассоциируется с эпохой Александра III, когда началось внедренние «русских» форм в архитектуре, что очень сильно поменяло повседневную среду обитания жителей городов: допетровская эстетика начала возвращаться в городскую среду.
Эти эстетические новации не были отделены от идеологических. Идеологический проект Александра III заключался в том, чтобы снять с повестки дня вопрос о введении парламентаризма, представительной демократии в России. Об этом же говорили два поколения славянофилов: посмотрите, к чему приводят идеи развития, как мы бы сегодня сказали, гражданского общества и парламентаризма — к революциям, к хаосу. Наш идеал — та форма государственного устройства, которая существовала до Петра, то есть до европеизации. В качестве политического идеала берется эпоха Алексея Михайловича (вторая половина XVII века), когда — так видится это идеологам — существовало органическое единство народа и царя, неведомое западным обществам. Именно архитектурная эстетика последнего периода существования Московского царства оказывается образцом для «русского стиля» позднеимперского периода. Тем самым достигается «синкретизм» эстетических и политических идеалов.
Однако возрождением «народной», допетровской эстетики занималось не только государство. Независимые инициативы в этой области поддерживал частный капитал. Например, Савва Мамонтов уже в семидесятые годы XIX века становится меценатом Абрамцевской колонии [художественный кружок, в который входили В. Васнецов, Е. Поленова, В. Серов, М. Врубель, М. Нестеров и другие. — Прим. ред.]. Художники Абрамцевской колонии считали своей миссией сближение культур образованной элиты и народа, и эта общая цель по-разному реализовывалась разными художниками. Русский культурный национализм оказался тесно связан именно с проектом возвращения к традициям, вытесненным европеизацией. Оказалось важным сказать: нашей культуре не 150 лет, а гораздо больше. Для формирования представления о «национальной традиции» это очень характерно: она всегда должна как можно глубже уходить в века. Одних исторических нарративов (вроде Карамзина) для этого мало, нужен параллельный нарратив культурной преемственности, в том числе преемственности эстетических форм. Древность традиции должна являть себя в нашем повседневном опыте.
Изобретение традиции
Русский модернизм, или «новое искусство», как тогда часто называли разнообразные экспериментальные течения, получает в наследство от последних десятилетий XIX века дилемму: что есть наша традиция? На страницах журнала «Мир искусства» (1899–1904) на эту тему идут нешуточные споры. Об этом вторая глава моей книги. Для одних наша традиция — это традиция русского европеизма последних двух столетий, другие указывают на народную и допетровскую культуру как на истинное основание уникальной «национальной» традиции. Спор этот не разрешается ни в чью пользу, но в 1905 году происходит внезапная и резкая смена контекста. Начинается Первая русская революция.
Революция приносит с собой мощный антигосударственнический пафос. Дело не только в популярности идей анархизма в это время, но именно в осознании разрыва между государством и обществом. В публичном дискурсе появляется идея общественного единства, которое не опирается на государство (в его существующих формах). Это имеет интересные последствия для сферы эстетики и для экспериментального искусства в частности.
Революция разрывает связку между «национальной архаикой» и консервативными политическими идеалами. Все усилия государства по реинкарнации допетровской традиции, по внедрению «русской эстетики» в повседневность не столько забываются, сколько переоцениваются как род псевдонационализма. В результате национальная архаика — традиции низших классов или традиции допетровской Руси — начинает осваиваться совершенно новыми группами, в том числе кругом экспериментального искусства. Я показываю в третьей главе, как это происходит, на примере, главным образом, Вячеслава Иванова и его окружения (А. Ремизова, С. Городецкого). Именно Вяч. Иванов, на мой взгляд, предлагает наиболее влиятельную новую рамку для осмысления роли архаического в современном искусстве, и она оказывает значительное влияние и на литературную, и на художественную, и на музыкальную критику. Вообще дискурс критики и самоописания художников, то есть формы говорения об искусстве, с этого момента находятся в центре моего внимания.
Иванов стремится сформулировать, в чем же состоит роль искусства и художника в новый момент национальной истории. Как вообще соединить интересы экспериментального искусства и задачи социального преобразования, сближения сословий, формирования нового типа связей внутри общества? Ответ оказывается примерно таким: да, нас пока не читает народ, но тем не менее наше творчество — лаборатория, в которой исследуются пути к новому «всенародному искусству», а оно, в свою очередь, и есть искомая, объединяющая всех форма существования человеческого коллектива. Разрыв между художником и народом преодолим, потому что «всенародное искусство» — плод творчества всего человеческого коллектива, то есть само разделение на творцов и зрителей перестает быть устойчивым. Но что должен сделать художник для того, чтобы актуализировать, вернуть в жизнь традиции, которые лягут в основу «всенародного искусства»? По мнению Иванова, он должен стать мифотворцем. Это знакомое нам расхожее клише, но на расстоянии в сто лет понятно, что говорит Иванов о процессе, концептуализирующемся историками национализма сегодня как «изобретение традиции». Для Иванова миф оказывается тем началом, через идентификацию с которым человеческий коллектив может осознать свое единство. Никакого «русского мифа», обладающего способностью всех объединить, не существует; для того и нужен художник-экспериментатор с его воображением, чтобы интегрировать миф там, где от него сохранились в лучшем случае невнятные осколки. Так нациестроительство превращается в творческую задачу: именно художник-экспериментатор оказывается обладателем уникальных возможностей в этой области. Воплощенный в современных эстетических формах миф должен давать живое ощущение корней, древности традиции и — одновременно — быть инкорпорирован в современность. В отличие от европейской традиции на русской почве (которая понимается как лишенная локальных корней), традиция, изобретаемая экспериментальным искусством, позиционируется как «национальная», связанная с автохтонной (свойственной данному народу или территории) традицией.
Очень многое в русском изобразительном искусстве, музыке, театре межреволюционного десятилетия (1907–1917) — про это я пишу уже в четвертой и пятой главах — осмысляется участниками художественного процесса в этом ключе: как возрождение «национального», то есть того, что было подавлено «чужой», ориентированной на европейские традиции художественной культурой имперского периода.
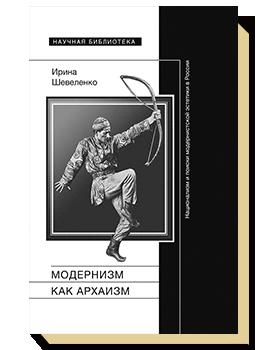 Хлебников, Брюсов и империя
Хлебников, Брюсов и империя
В конце 1900-х годов в литературе проявляет себя новое поколение, эстетически еще более радикальное. Я имею в виду русских футуристов (будетлян) и сходные группы, которые активно используют язык национализма в своих манифестах. В литературе эксперименты с языком приобретают особое направление. Декларируется, что современный язык вообще не может быть инструментом эстетического высказывания, потому что он не отличается от языка газеты. А как его сделать отличным от языка газеты? Либо мы начинаем вводить в него архаические пласты лексики, либо мы деформируем его и вводим неологизмы. И то, и другое будет делать Хлебников, который в ранний период находится под влиянием идей Иванова, дополняя ивановское «мифотворчество» идеями «словотворчества». Он, в частности, связывает свои языковые опыты с импульсами, идущими от панславизма: описывает эти опыты как реконструкцию «всеславянского» языка, что, в свою очередь, преподносится как пролог к восстановлению единства славянских народов. (Для панславизма именно в таком единстве видится цель национального проекта, потому что славянское единство постулируется как колыбель русской национальной истории, как утраченный идеал, к которому надо вернуться.)
Хлебников и его круг работают с той же матрицей, что и Иванов, но в центр их рассуждений помещается уже язык как таковой: он должен трансформироваться, чтобы стать платформой для нового типа социальной консолидации. Однако примечательно, что, описывая путь к воссозданию «всеславянского» языка, Хлебников с легкостью представляет сам процесс как поглощение русским языком иных славянских языков, то есть воспроизводит типичный дискурс империи. В статье 1913 года «О расширении пределов русской словесности» Хлебников говорит о существовании проблемы, связанной с тем, что на русском языке довольно мало пишут о культурах других народов империи — на карте сознания русской литературы этих народов, их жизни как бы не существует. И это неправильно, говорит Хлебников. Русская литература должна измениться, должна включить в себя все многообразие жизни империи (впрочем, Хлебников в той же статье легко выходит и за пределы имперских границ). Я об этом упоминаю к тому, что динамика национального и имперского сознания очень интересна в это время. Иногда кажется, что модернисты вообще не знают, что живут в империи, населенной многими народами, то есть считают все пространство империи пространством русской культуры. А в других случаях очевидно, что имперское многообразие их беспокоит и тогда становится объектом теоретизирования: как же это многообразие включить в национальный проект? Неслучайно после 1917 года идея грядущей мировой революции именно для Хлебникова оказывается столь притягательной: она позволяет избавиться от этой мучительной дихотомии национального/имперского и заговорить о «всечеловеческом» языке (вместо всеславняского) как о новой цели.
Вообще же понимание империи в кругу модернистов часто совершенно умозрительное, а вовсе не реально политическое. Что я имею в виду? Империя — это воплощение идеи преодоления границ, идеи выхода за пределы. Об этом пишет Иванов в статье «О русской идее» в 1908 году: нам чужда идея государственности, империя для нас не государство с его фиксированностью границ, а бесконечно расширяющееся пространство синтеза. Собственно идею «синтеза» Иванов и объявляет «русской идеей»: сначала это синтез внутри пространства русской культуры, а дальше эту идею синтеза мы должны нести во внешний мир. То есть мы действительно носители римского пафоса всемирности: империя равна миру, а вовсе не Российской империи.
По контрасту с Ивановым и Хлебниковым интересен случай Валерия Брюсова. Он еще в начале 1903 года говорит, что эпоха национализма заканчивается на наших глазах, а на смену ей идет новая эпоха империализма. Соответственно, брюсовская линия в эстетике практически не связана с апелляцией к национальному (это для него частность): она последовательно универсалистская, его идея — радикально увеличить «эстетическую вместимость» русской литературы. Отсюда его стилизации в прозе, отсюда освоение античных размеров в стихах, а затем вообще самых разных версификационных традиций («Опыты по метрике и ритмике»), стремление дать русскому языку, русской литературной традиции образцы вообще всех поэтических форм. По своим базовым интенциям это другой полюс модернистской идеологии и эстетики, хотя я и отмечаю в книге моменты схождения между позициями Иванова и Брюсова.
Есенин, Белый и другие
С конца 1900-х годов мы видим, как множатся очень разные опыты, связанные с освоением народной традиции, языка фольклора и т.д. Я не останавливаюсь на них в книге подробно, потому что они уже не порождают принципиально нового языка эстетический рефлексии, каким был в середине 1900-х годов язык, предложенный Ивановым и растиражированный критикой. Но само разнообразие этих опытов и тенденций и есть знак успеха общей идеи, идеи формирования современных эстетических языков через включение в них архаической традиции, фольклора. Идет что-то вроде цепной реакции по разным литературным флангам, ибо «теперь так пишут».
Скажем, появляется Есенин, который позиционирует себя как тот самый «народ», который пришел создавать новую высокую культуру и который утверждает свое право на «этот» (народный) язык по рождению. Одновременно, точнее еще до Есенина, Андрей Белый выступает с неонароднической лирикой: «Пепел» и «Урна» выглядят не как реинкарнация, но как продолжение некрасовской линии. Причем у каждого автора мы можем увидеть — помимо того, что они так пишут, потому что теперь так принято — индивидуальные причины для экспериментирования с архаическими стилистическими традициями. У Белого, скажем, это жест разрыва с элитистским языком раннего символизма. А Цветаева в 1916 году резко меняет свою поэтическую стилистику, фольклоризирует ее, чтобы достичь расподобления биографического и лирического «я», чтобы перестать писать «дневниковую поэзию».
Экспериментальное как национальное
Литература и критическая рефлексия в литературной критике дает мощный импульс другим областям искусства. Это и складывание художественной программы дягилевской антрепризы в Европе, о которой я пишу в четвертой главе, и многое из того, что происходит в изобразительном искусстве и художественной критике в 1910-е годы. В заключительной, пятой, главе я подробно разбираю историю открытия средневековой иконописи и тот мощный импульс, который это открытие дает раннему русскому авангардному искусству. Собственно в этой истории яснее всего виден смысл модернистского архаизма вообще — провозгласить экспериментальную эстетику как эстетику национальную по преимуществу, в отличие от наследия двух предшествующих веков, то есть от «чужой» эстетической традиции, доминировавшей в имперский период.
Разумеется, важно помнить, что в книге описывается один из трендов внутри русского модернизма. Он важен и влиятелен, и он никогда не был предметом осмысления в целом, то есть в совокупности его проявлений в художественной практике и рефлексии. Но рядом с ним существуют другие линии, богатые и интересные. Те авторы, о которых я пишу, вовсе не прикреплены намертво к «архаизирующему» тренду. И сам этот тренд в его целостности лучше виден нам из сегодняшнего далека, чем он был виден современникам. Невозможно описать его и как единый эстетический проект, хотя все сюжеты, которые я разбирала в книге, связаны между собой теми или иными нитями. Это, скорее, спектр разнообразных эстетических проектов, отвечавших на общий внеэстетический запрос, который был связан с нациестроительными идеями и интересами, складывавшимися в образованном сообществе в России в поздний имперский период.