Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
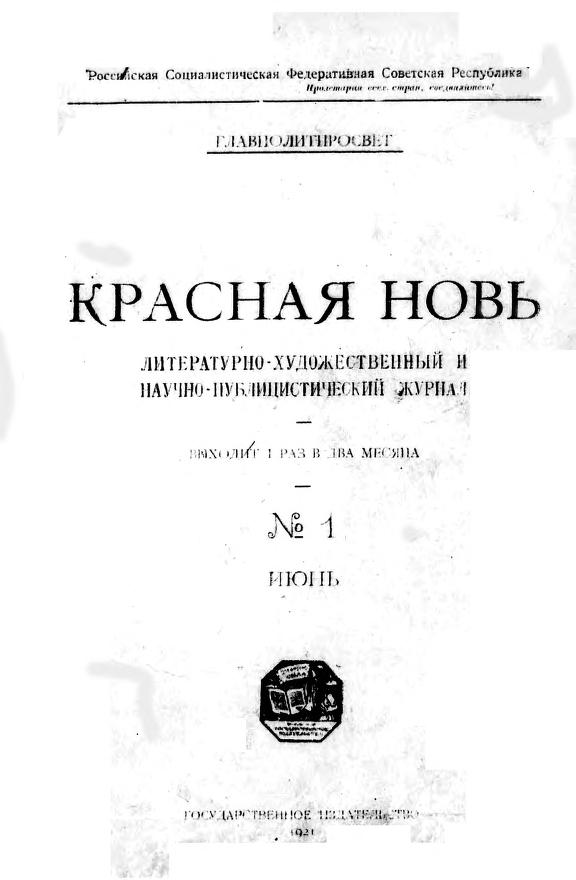 Проблемой контроля над литературой большевики озаботились еще в начале 1920-х годов — стоило только отгреметь решающим сражениям Гражданской войны. Как отмечает историк литературы Наталья Корниенко, провозгласив в 1921 году Новую экономическую политику, партия не отказалась от намерения руководить «всеми областями культурной жизни [страны]: литературой, театром, образованием, общественными и гуманитарными науками». В том же году на X съезде РКП(б) была принята декларация «О Главполитпросвете и агитационно-пропагандистских задачах партии», в которой говорилось:
Проблемой контроля над литературой большевики озаботились еще в начале 1920-х годов — стоило только отгреметь решающим сражениям Гражданской войны. Как отмечает историк литературы Наталья Корниенко, провозгласив в 1921 году Новую экономическую политику, партия не отказалась от намерения руководить «всеми областями культурной жизни [страны]: литературой, театром, образованием, общественными и гуманитарными науками». В том же году на X съезде РКП(б) была принята декларация «О Главполитпросвете и агитационно-пропагандистских задачах партии», в которой говорилось:
«Съезд поручает всем агитпропагандистским органам партии и Главполитпросвету развить самую усиленную агитацию в связи с новой полосой революции и задачами борьбы с мелкобуржуазной контрреволюцией».
Решение этой задачи, пишет Корниенко, возлагалось не только на государственные органы, но и на первый советский толстый литературный журнал «Красная новь», созданный в 1921 году.
Роберт Магуайр, автор первой истории «Красной нови», пишет, что начало 1920-х годов было крайне неблагоприятным временем для запуска нового издания. Страна была истощена войной, голодом и эпидемиями, не хватало самого необходимого, в том числе бумаги, чернил и печатных станков — всего того, без чего немыслима издательская деятельность. Кроме того, в 1920—1921 годах Советскую Россию покинули (кто-то временно, а кто-то, как оказалось, навсегда) многие представители «старой» интеллигенции: Иван Бунин, Александр Куприн, Дмитрий Мережковский, Алексей Толстой, Зинаида Гиппиус, Андрей Белый и другие. Казалось, что центр русской литературной жизни переместился за рубеж.
В феврале 1921 года большевик со стажем Александр Воронский, только что назначенный главным редактором Главполитпросвета, предложил своей начальнице Надежде Крупской создать журнал под названием «Красная новь». Проект заинтересовал не только Крупскую, но также Ленина и Горького. Воронский вспоминал:
«Первое организационное собрание редакции „Красной нови“ происходило в Кремле, в квартире Владимира Ильича Ленина. Помимо него на этом собрании присутствовали Надежда Константиновна Крупская, Алексей Максимович Пешков (Горький) и я. <...> Я сделал краткий доклад о необходимости издания толстого литературно-художественного и научно-публицистического журнала. Ленин согласился с моими мыслями. Здесь же было намечено, что журнал будет издаваться Главполитпросветом, что ответственным редактором буду я и что Алексей Максимович будет редактировать литературно-художественный отдел этого журнала».
Первое время Горький действительно принимал участие в работе «Красной нови», но вскоре отошел от дел, после чего Воронский стал фактически единолично руководить журналом.
Воронский ищет таланты
 Александр Воронский вступил в партию большевиков в 1904 году. Он занимался подпольной работой, провел несколько лет в ссылках и тюрьмах, о чем впоследствии рассказал в автобиографической книге «За живой и мертвой водой». После революции Воронский работал в Иваново-Вознесенске, где редактировал газету «Рабочий край» и писал статьи о литературе. Роберт Магуай предполагает, что именно в это время Воронский привлек к себе внимание Ленина, способствовавшего его переезду в Москву.
Александр Воронский вступил в партию большевиков в 1904 году. Он занимался подпольной работой, провел несколько лет в ссылках и тюрьмах, о чем впоследствии рассказал в автобиографической книге «За живой и мертвой водой». После революции Воронский работал в Иваново-Вознесенске, где редактировал газету «Рабочий край» и писал статьи о литературе. Роберт Магуай предполагает, что именно в это время Воронский привлек к себе внимание Ленина, способствовавшего его переезду в Москву.
Горький так характеризовал Воронского в первые годы их знакомства: «Человек он хороший, порядочный, но в искусстве, кажется, не очень много смыслит. Однако, судя по характеру, научится: упорный». По всей видимости, в начале 1920-х годов Воронский действительно не очень хорошо ориентировался в современной русской литературе и потому после назначения в «Красную новь» попросил у Горького помощи в поиске авторов для нового журнала. Тот посоветовал ему отправиться в Петроград и познакомиться с писательской группой «Серапионовы братья», в которую входили Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Лев Лунц, Елизавета Полон, Николай Никитин, Всеволод Иванов, Константин Федин, Николай Тихонов и Илья Груздев.
Всеволод Иванов рассказывал, что Воронский пришел к нему домой в июле 1921 года (вскоре после выхода первого номера журнала) и спросил:
«„Не укажете ли вы наиболее известные литературные кружки Петрограда? И литераторов молодых?“ <...> Воронский ходил из кружка в кружок, сидел на обсуждении, а затем выспрашивал слушателей — кого из молодых писателей они считают наиболее талантливыми? Писатель, собравший наибольшее количество одобрительных отзывов, получал от него предложение печататься в „Красной нови“».
Ирина Кабанова предполагает, что Всеволод Иванов путает даты и знакомство Воронского с серапионами в действительности произошло в конце 1921 года. Сам Воронский, вспоминая о тех событиях, отмечал, что петроградские литераторы сначала отнеслись к нему не слишком дружелюбно:
«Всеволода Иванова я нашел в пустой и холодной квартире. <...> Он отвечал односложно и неохотно, но все же я от него получил тогда „Бронепоезд 14-69“ [повесть была опубликована в первом номере „Красной нови“ за 1922 год. — К. М.]. <...> Так же прохладно приняли меня Михаил Зощенко, Лунц и Константин Федин, по рассказу от них я тоже получил».
От Всеволода Иванова мы узнаем еще немало интересных подробностей о том, как происходило знакомство Воронского с писательской средой:
«Сперва А. К. Воронский относился к писателям настороженно. Повышенная чувствительность литераторов казалась ему странной; малая политическая сознательность иных часто выводила его из себя. Иногда, прочтя рукопись и поговорив с ее автором, он возмущенно всплескивал руками и, быстро моргая, говорил: „Сомневаюсь, известно ли ему, что произошла Октябрьская революция!“»
С точки зрения опытного партийца Воронского, молодым писателям не хватало сознательности, но особого выбора у него не было: необходимо было предъявить советским и зарубежным (в первую очередь эмигрантским) читателям «новую литературу» Страны Советов. Воронский писал Ленину, что намерен «организовать молодежь» против «стариков», имея в виду авторов, сделавших себе имя еще до революции и уехавших из России.
Воронскому удалось преодолеть первоначальный скепсис писателей (свою роль сыграли финансовые возможности журнала), и на страницах «Красной нови» начали печататься Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Михаил Зощенко, Илья Эренбург, Михаил Пришвин, Николай Никитин, Лидия Сейфуллина, Алексей Толстой, Мариэтта Шагинян, Сергей Есенин, Леонид Леонов и другие, как тогда говорили, попутчики.
Как сделать, чтобы попутчики перестали бояться и полюбили революцию
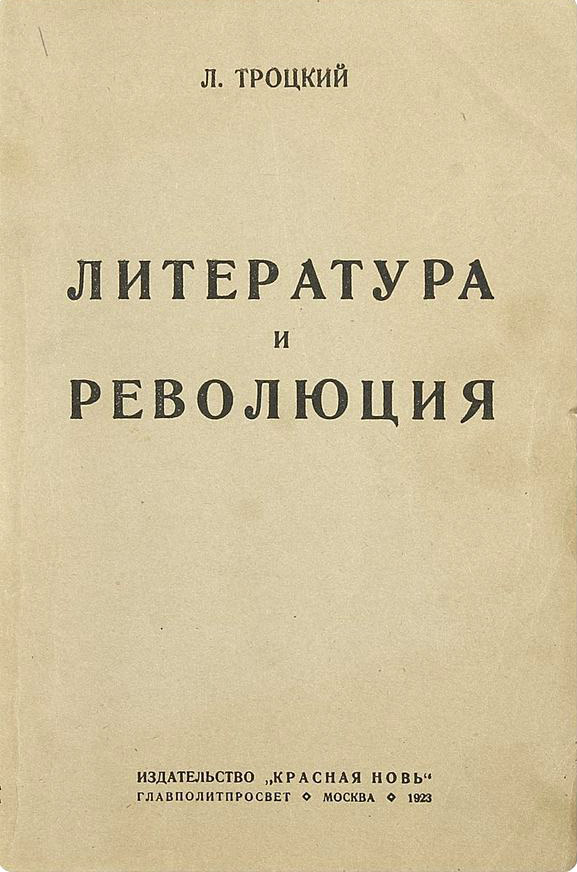 Считается, что термин «попутчик» придумал Анатолий Луначарский, но популяризовал его Лев Троцкий. В книге «Литература и революция» (1923) он писал, что «попутчики» занимают срединное положение «между буржуазным искусством, которое изживает себя... и новым искусством, которого еще нет». Попутчики пришли в литературу либо уже после 1917 года, либо незадолго до него, а их искусство «более или менее органически связано с революцией, но не является в то же время искусством революции».
Считается, что термин «попутчик» придумал Анатолий Луначарский, но популяризовал его Лев Троцкий. В книге «Литература и революция» (1923) он писал, что «попутчики» занимают срединное положение «между буржуазным искусством, которое изживает себя... и новым искусством, которого еще нет». Попутчики пришли в литературу либо уже после 1917 года, либо незадолго до него, а их искусство «более или менее органически связано с революцией, но не является в то же время искусством революции».
В июне 1922 года Троцкий подал в Политбюро записку, в которой говорил о необходимости привлечь на сторону большевиков молодых беспартийных писателей и поэтов. Он призвал критиков-марксистов более взвешенно оценивать творчество таких авторов («с целью добиться определенного воздействия и влияния»), говорил о важности личных связей между «партийными товарищами... и... молодыми поэтами», предлагал смягчить цензуру и начать платить литераторам хорошие гонорары. «...но для этого, — замечал Троцкий, — нужно, чтобы молодым авторам было где печататься. „Красная новь“ ввиду ее чисто партийного характера — недостаточное для них поле деятельности». Тем не менее журнал Воронского сыграл важную роль в развернувшейся в 1920-е годы борьбе за сердца и умы попутчиков.
Воронский близко сошелся со многими публиковавшимися в «Красной нови» авторами. Как сообщает Вячеслав Иванов, литераторы часто собирались в его номере в гостинице «Националь», называвшейся тогда первым Домом Советов:
«Купив в складчину бутылку красного вина, мы за этой бутылкой просиживали целый вечер, широко и трепетно разговаривая о литературе. Здесь читал Есенин свои стихи, Пильняк — „Голый год“, Бабель — „Конармию“, Леонов — „Барсуки“, Федин — „Сад“, Зощенко и Никитин — рассказы».
Импровизированный литературный салон в «Национале» посещали и товарищи Воронского по партии, среди которых были Михаил Фрунзе, Карл Радек и Серго Орджоникидзе.
Начиная с 1922 года в «Красной нови» начали печататься статьи Воронского о современных советских писателях. Первая из них была посвящена Борису Пильняку, с которым Воронский, по всей видимости, подружился еще весной 1921 года. В начале 1920-х Пильняк считался одной из самых ярких фигур в советской литературе. Известность ему принес роман «Голый год» (1922), рассказывающий о послереволюционном времени в вымышленном провинциальном городе Ордынине.
Воронский также оценил «Голодный год», отметив, что в произведении «в помине нет единства построения, фабулы и прочего, что обычно требует читатель, беря в руки роман». Отказ Пильняка от традиционной романной формы он связал с социальными и политическими потрясениями революционных лет: «Получается впечатление, что автор не может сосредоточиться на одном, выбрать отдельную сторону взбаломученной действительности. <...> И может быть, так и нужно. Революция перевернула весь уклад целиком, все поставила вверх ногами, и художник прав, когда он стремится захватить как можно шире, дать цельную, полную картину сдвига и катастрофы».
Признавая несомненную одаренность Пильняка, Воронский критиковал его за неверное понимание характера революции, в которой писатель увидел не «порыв в стальное будущее», а безудержный народный бунт, возвративший страну в допетровские времена. Тем не менее статья заканчивается на примирительной ноте: «...у Пильняка настоящий талант... талант и революция сейчас неразрывны».
Схожим образом — немного кнута, но не забывать и про пряник — строились многие статьи Воронского о современных писателях. В статье 1924 года о Леониде Леонове он резко осудил идеологическое содержание некоторых его произведений, но все же похвалил прозаика за умение «видеть типических живых людей». Роман-антиутопию Евгения Замятина «Мы» Воронский назвал «художественной пародией», изображающей «коммунизм в виде какой-то сверхказармы под огромным стеклянным колпаком», но при этом заметил: «С художественной стороны роман написан превосходно. Замятин достиг здесь полной самостоятельности и зрелости. Тем хуже, ибо все это идет на служение злому делу...»
Пожалуй, наиболее лестного отзыва от Воронского удостоился Исаак Бабель, которого тот назвал «новым достижением послеоктябрьской литературы». Критик хвалит писателя за «простоту и ясность в прозе», противопоставляя его «поэтам и прозаикам, воплощавшим в себе художественную реакцию, наступившую после 1905 года», — Белому, Мережковскому и Зинаиде Гиппиус.
С именем Бабеля связан крупный скандал, в который «Красная новь» и лично Воронский оказались втянуты в 1924 году. В 1923—1924 годах на страницах журнала было опубликовано несколько новелл из книги «Конармия», которые вызвали гневную реакцию Семена Буденного, бывшего командарма Первой конной. «Гражданин Бабель рассказывает нам про Конную Армию бабьи сплетни, роется в бабьем барахле-белье, с ужасом по-бабьи рассказывает о том, что голодный красноармеец где-то взял буханку хлеба и курицу; выдумывает небылицы, обливает грязью лучших командиров-коммунистов, фантазирует и просто лжет», — возмущался он в заметке, опубликованной в журнале «Октябрь» в ноябре 1924 года. «Неужели т. Воронский так любит эти вонючие бабье-бабелевские пикантности, что позволяет печатать безответственные небылицы в столь ответственном журнале...» — недоумевал прославленный командир.
Историки литературы Юрий Парсамов и Давид Фельдман предполагают, что публикация статьи Буденного была целенаправленной атакой на Воронского как на протеже Троцкого, организованной Сталиным и Ворошиловым. Этот выпад не имел никаких последствий для редактора «Красной нови», но проблем у него хватало и без этого.
Воронский против «пролетарских критиков» и ЛЕФа
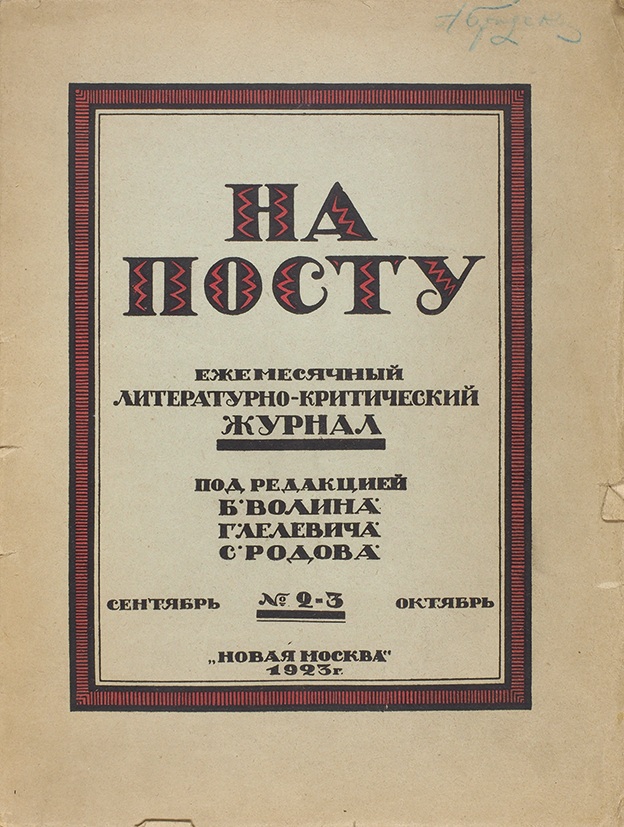 Много хлопот Воронскому доставляли молодые критики из журнала «На посту» (органа Московской и Всероссийской ассоциации пролетарских писателей), созданного в 1923 году. Они позиционировали себя глашатаями новой, «пролетарской» литературы и атаковали редактора «Красной нови» за то, что он отдавал предпочтение попутчикам, а не литераторам из рабочей среды. Напостовцы призывали установить полный партийный контроль над литературой и возмущались «добродушными большевиками», которые сидят «в наших издательствах — дают приют этим господам [попутчикам. — К. М.], вскармливают их творчество, способствуют его распространению среди широчайших читательских кругов».
Много хлопот Воронскому доставляли молодые критики из журнала «На посту» (органа Московской и Всероссийской ассоциации пролетарских писателей), созданного в 1923 году. Они позиционировали себя глашатаями новой, «пролетарской» литературы и атаковали редактора «Красной нови» за то, что он отдавал предпочтение попутчикам, а не литераторам из рабочей среды. Напостовцы призывали установить полный партийный контроль над литературой и возмущались «добродушными большевиками», которые сидят «в наших издательствах — дают приют этим господам [попутчикам. — К. М.], вскармливают их творчество, способствуют его распространению среди широчайших читательских кругов».
Особенное возмущение у «неистовых ревнителей» вызывал популярный в те годы Пильняк, который, как считалось, оказывал развращающее влияние на молодых писателей. Критик Г. Лелевич писал в июне 1923 года: «Чадолюбивый Воронский поливает из лейки „Красной нови“ пахучие овощи пильняковского сорта. <...> Нужно принять срочные меры, чтобы литературный участок идеологического фронта не был прорван». В 1924 году на страницах журнала «На посту» красовался недвусмысленный призыв «ликвидировать воронщину».
Одновременно с этим напостовцы критиковали Троцкого, который считал, что пролетарская литература представляет собой в лучшем случае краткий эпизод на пути к созданию социалистического и, следовательно, бесклассового искусства. «Бесформенные разговоры насчет пролетарской культуры, — писал нарком, — по аналогии-антитезе с буржуазной, питаются крайней некритическим уподоблением исторических судеб пролетариата и буржуазии». Все тот же Лелевич возражал Троцкому: «Совершенно независимо от строительства будущего социалистического искусства, уже сейчас может и должно создаваться искусство пролетарское. Мало того, уже сейчас пролетарская литература представляет из себя значительную величину».
Воронский в своих статьях о литературе опирался на Троцкого, так что подобная критика била и по редактору «Красной нови». Стоит также заметить, что в середине 1920-х годов Сталин вел внутрипартийную борьбу против Троцкого, и напостовцы в этом противостоянии заняли сторону генсека.
Нападки «пролетарских критиков» на Воронского, возглавлявшего не только «Красную новь», но и успешное издательство «Круг», в первую очередь были частью борьбы за власть над советской литературой. «Напостовское требование „партийной линии“ было... требованием новой, отвечающий их интересам линии... при которой „портфель, туго набитый деньгами“, оказался бы в их руках», — пишет Евгений Добренко в книге «Формовка советского писателя». Но все же этим дело не ограничивалось: оппоненты также придерживались разных точек зрения на литературу и роль писателя в послереволюционном обществе.
Для Воронского искусство было прежде всего способом познания жизни: «У искусства, как и у науки, один и тот же предмет: жизнь, действительность. Но наука анализирует, искусство синтезирует, наука отвлеченна, искусство конкретно; наука обращена к уму человека, искусство к чувственной природе его. Наука познает жизнь с помощью понятий, искусство — с помощью образов, в форме живого чувственного созерцания». Воронский настаивал на том, что такое познание всегда индивидуально, и у «художника должны быть свои глаза..., он должен видеть и слышать не так, как видят и слышат обычно...»
Напостовцы ругали Воронского за идею о том, что писатель может «объективно» изображать «действительность» вне зависимости от своей классовой принадлежности и идеологии: «Наши попутчики не смотрят глазами коммуниста, ибо этих глаз у них нет, — стало быть, объективная правда эпохи для них закрыта». Для них основным критерием при оценке литературного произведения была «идеологическая выдержанность» и «партийность», а задачу писателя они видели в том, чтобы с «радостным волевым напряжением» выполнять «осознанное классовое задание».
Другими ярыми оппонентами Воронского стали теоретики Левого фронта искусств, издававшего с 1923 по 1925 год одноименный журнал. Рассуждения Воронского о «творческой личности» и «индивидуальности художника» казались лефовцам анахронизмом. Осип Брик в статье с говорящим названием «Против „творческой“ личности» (опубликована в 1928 году в «Новом ЛЕФе») характеризовал предложенную Воронским теорию творчества как «буржуазно-интеллигентскую» и выступал за отказ от «индивидуалистической художественной литературы» в пользу «литературы деловой, газетно-журнальной».
Лефовцы выдвинули теорию «социального заказа», согласно которой писатели и поэты не занимаются самовыражением, а выполняют задачу, поставленную их классом. «Не будь Пушкина, „Евгений Онегин“ все равно был бы написан», — утверждал Осип Брик в 1923 году, добавляя: «...не себя выявляет великий поэт, а только выполняет социальный заказ». Таким образом, литературное творчество лишалось своего возвышенного ареола и становилось занятием, не сильно отличающимся от производства бумаги или изготовления снарядов.
Если Воронский говорил об искусстве как о способе «познания жизни», то теоретики ЛЕФа настаивали на том, что искусство должно трансформировать действительность. «Искусство, как метод познания жизни... — вот наивысшее... содержание старой, буржуазной эстетики. Искусство как метод строения жизни... — вот лозунг, под которым идет пролетарское представление о науке искусства», — декларировал Николай Чужак в первом номере «ЛЕФа».
Наконец, лефовцы критиковали Воронского за ориентацию на реалистическую литературу XIX века, считая такой подход реакционным, и настаивали на том, что революционная эпоха требует радикальной трансформации искусства. «Мы дадим организованный отпор тяге „назад!“, в прошлое, в поминки», — воинственно заявляли они в 1923 году.
