Радельный вечер Анны Радловой
О некоторых формах исследования хлыстовства
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Анна Радлова (1891–1949), пожалуй, не самая известная и даже отчасти забытая фигура Серебряного века. Современному читателю она известна в первую очередь как адресат первой части книги Михаила Кузмина «Форель разбивает лед». В 1921–1925 годах она входила в кузминский кружок эмоционалистов и в рамках этого сообщества претендовала на место «первой русской поэтессы» наряду, например, с Анной Ахматовой в иных кругах. В советское время Радлова была известна преимущественно как переводчица европейских авторов, в частности Шекспира. Ее переводы отличались поэтической выразительностью и пластичностью образов, а также — высоким эмоциональным напряжением, что вызывало как положительные, так и отрицательные отзывы современников. Корней Чуковский ставит ей в укор уничтожение оригинальной интонации Шекспира, замену ее на отрывистую, экзальтированную речь: «Но главная беда переводов Анны Радловой отнюдь не в этом затмении смысла. Есть в них более тяжкий порок, который заключается в полном уничтожении интонаций Шекспира. Отрывистыми, кургузыми, куцыми фразами говорят у нее чуть ли не все персонажи великих трагедий»[1]. И хотя с Чуковским в оценке переводов Радловой не был согласен, например, Борис Пастернак[2], они действительно обладают специфической интонацией, интересной нам своей раскованностью и надрывностью, даже некоторой истеричностью:
Несчастье слишком верно: нет ее!
И в этой жалкой жизни только горечь
Осталась мне. — Но где, скажи, Родриго,
Ее ты видел? — Бедное дитя! —
У Мавра? — Кто захочет быть отцом? —
Узнал ее? — Как страшно обманула! —
Что вам сказала? — Фонарей! — Зовите
Всех родичей! — Они уж поженились? [3]
Можно сказать, что на поэтику Радловой в целом наложила отпечаток театральность и ощущение сцены: она преподавала сценическую речь актерам, заведовала литературной частью театра Ленинградского совета (Молодого театра) и была женой режиссера и теоретика театра Сергея Радлова. Однако экзальтация поэтической речи, возможно, берет начало в еще одном ее интересе — к русскому сектантству.
Многие справочные материалы и исследования поэтики Радловой как представительницы авангарда отмечают ее «увлечение сектантством», однако степень влияния этого интереса на жизнь и творчество поэтессы кажется недооцененной. Это не удивительно: многие современники Радловой интересовались сектантством — в их числе Андрей Белый, Дмитрий Мережковский, Николай Бердяев, Марина Цветаева. При этом большинство литераторов искали средства для обновления поэтики в мистике в широком смысле, они вдохновлялись экзотизированными образами «народной веры», эмоциональные проявления которой стремились соотнести с катарсисом. Радлову же интересовал не столько образ, сколько сам феномен хлыстовства и скопчества со всеми его историческими и обрядовыми особенностями — она стремилась проникнуть в суть сложившихся мистических традиций и практик, понять образ мысли людей, их создавших. Погружение в особенности сектантства заняло у поэтессы более 10 лет: с конца 1910-х, когда появляются ее первые вдохновленные сектантской образностью стихи, и до 1931 года, когда она заканчивает «Повесть о Татариновой». Можно сказать, что это занятие стало стержневым во всей ее авторской — и отчасти исследовательской — карьере.
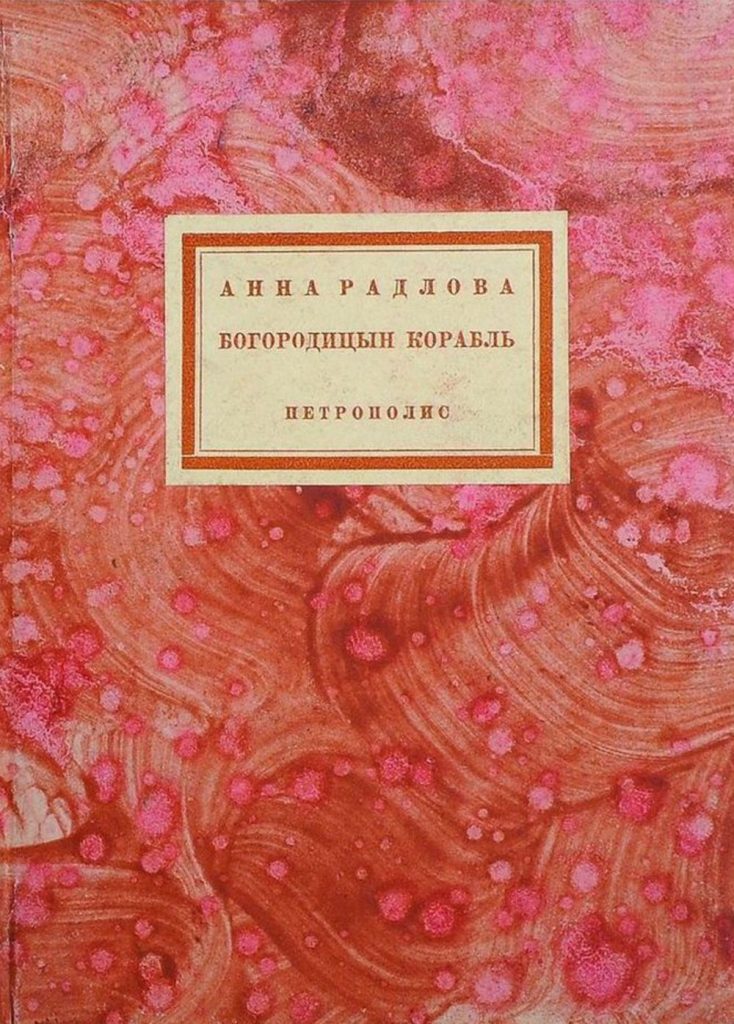 На постсоветском пространстве, на волне возвращения наследия модернизма, внимание к «сектантскому» корпусу текстов Радловой привлек Александр Эткинд*Признан властями РФ иноагентом, издав их в 1997 году — «Повесть о Татариновой» тогда вышла впервые. В 2022 году вышло переиздание в Издательстве Ивана Лимбаха, и оно, как и предыдущее издание, включает в себя три основных элемента. Во-первых, пьесу «Богородицын корабль» (1921), в основе которой лежит скопческая легенда об уходе царицы Елизаветы с престола и рождении ею сына. Этот сын, понимаемый как инкарнация Христа, звался Кондратий Селиванов и считался основателем первых скопческих общин. Характерно, что Радлова не просто делает литературное переложение апокрифического сюжета, но и осуществляет словесную реконструкцию мистического озарения, постигшего Елизавету и побудившего ее отказаться от прежней жизни. Александр Эткинд в предисловии к первому изданию отмечает[4], что в «Богородицыном корабле» Радлова использует драматическую технику Шекспира — и уже упомянутую «рваную» интонацию. Был переиздан также сборник стихов «Крылатый гость» (1922), который отражает визионерский опыт поэтессы, в том числе вдохновленный сектантскими песнопениями и практиками.
На постсоветском пространстве, на волне возвращения наследия модернизма, внимание к «сектантскому» корпусу текстов Радловой привлек Александр Эткинд*Признан властями РФ иноагентом, издав их в 1997 году — «Повесть о Татариновой» тогда вышла впервые. В 2022 году вышло переиздание в Издательстве Ивана Лимбаха, и оно, как и предыдущее издание, включает в себя три основных элемента. Во-первых, пьесу «Богородицын корабль» (1921), в основе которой лежит скопческая легенда об уходе царицы Елизаветы с престола и рождении ею сына. Этот сын, понимаемый как инкарнация Христа, звался Кондратий Селиванов и считался основателем первых скопческих общин. Характерно, что Радлова не просто делает литературное переложение апокрифического сюжета, но и осуществляет словесную реконструкцию мистического озарения, постигшего Елизавету и побудившего ее отказаться от прежней жизни. Александр Эткинд в предисловии к первому изданию отмечает[4], что в «Богородицыном корабле» Радлова использует драматическую технику Шекспира — и уже упомянутую «рваную» интонацию. Был переиздан также сборник стихов «Крылатый гость» (1922), который отражает визионерский опыт поэтессы, в том числе вдохновленный сектантскими песнопениями и практиками.
И наконец, читателю доступна «Повесть о Татариновой» (1931), представляющая собой детальную историческую реконструкцию жизни руководительницы хлыстовской секты Екатерины Татариновой. Татаринова проводила собрания своей общины в Инженерном замке, и среди ее последователей были многие придворные. Радлова исследовала опубликованные документы, оставшиеся после ее ареста в 1822 году. Факт проведения ею архивной работы (в доступной мере) подтверждается позднейшими исследованиями, находящими в художественном тексте прямые указания на исторический контекст: «Труд Радловой отличается от научного исследования отсутствием ссылок: но у многих цитат, взятых Радловой в кавычки, или, наоборот, скрытых от читателя, обнаруживается исторический источник»[5]. Однако Радлова была знакома не только с документами об аресте Татариновой, но и с данными, полученными от других арестованных сектантов. В их числе были и оригинальные хлыстовские молитвы, и записи о радениях, порядок которых Радловой было вполне под силу реконструировать.
Стоит отметить, что различие между художественным текстом и исследовательским, на которое обращает внимание Эткинд, не было для Радловой и ее современников очевидным. Многие исторические и философские труды — например, Мережковского — являли собой пример художественного текста, и в то же время для создания нарратива в общей канве художественности авторы нередко просиживали месяцы в архивах. Хейден Уайт, предложивший концепцию «метаистории», отмечает невозможность (по крайней мере, в XIX веке) создания «объективного» исторического нарратива и указывает на единую нарративную основу исторических и художественных сочинений: «Дискурсивные связи между фигурами (людей, событий, процессов) в дискурсе не являются логическими связями или дедуктивными соединениями одного с другим. Они, в общем смысле слова, метафоричны, то есть основаны на поэтических техниках конденсации, замещения, символизации и пересмотра. Вот почему любое исследование конкретного исторического дискурса, которое игнорирует тропологическое измерение, обречено на неудачу в том смысле, что в его рамках невозможно понять, почему данный дискурс „имеет смысл“ вопреки фактическим неточностям, которые он может содержать, и логическим противоречиям, которые могут ослаблять его доказательства»[6].
Таким образом, осознаваемое различие между исследованием и творчеством может оказаться сугубо формальным, и в связи с этим оба вида работы Радловой с историческим материалом оказываются друг от друга неотделимы. Соответственно, происходит и взаимопроникновение методов: опыт взаимодействия с аутентичным материалом может быть не только исследовательский, но и визионерский. При этом стоит отметить, что мы говорим не о религиозной деятельности, а о попытке воссоздать «истину» — истинную историю Татариновой, истинный порядок хлыстовских радений. Речь идет о характере изложения материала и о характере работы с источниками, где конечная цель высказывания может пониматься нами скорее как исследовательская, а форма этого высказывания — скорее как художественная. Уайт пишет об исторических нарративах, сконструированных по законам волшебной сказки или остросюжетного триллера, в случае Радловой же нарратив на историчность и не претендует — однако причина использования аналитических методов работы с материалом лежит в области поиска исторической достоверности.
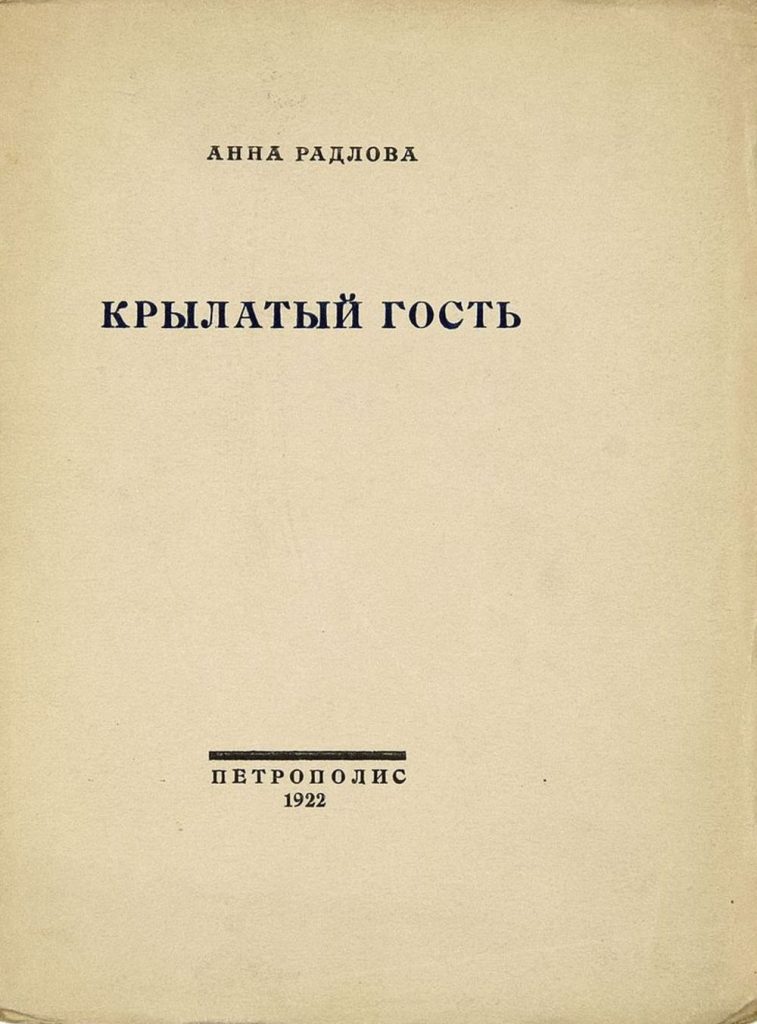 Подтверждения использования гибридных методов находятся и в сборнике «Крылатый гость», потому что переход от религиозной практики к авторской быстрее осуществляется на стихотворном материале из-за формального сходства поэзии и обрядовых песнопений. В стихотворении «Ангел песнопенья» ритмический рисунок и визуальный облик текста создают ощущение сбивчивой мысли и затуманенного сознания, которое «являет» откровения, за счет нелинейной строфики, переносов слов и поэтики перечисления. Сюжет текста состоит в том, что ангел является лирической героине во время радения:
Подтверждения использования гибридных методов находятся и в сборнике «Крылатый гость», потому что переход от религиозной практики к авторской быстрее осуществляется на стихотворном материале из-за формального сходства поэзии и обрядовых песнопений. В стихотворении «Ангел песнопенья» ритмический рисунок и визуальный облик текста создают ощущение сбивчивой мысли и затуманенного сознания, которое «являет» откровения, за счет нелинейной строфики, переносов слов и поэтики перечисления. Сюжет текста состоит в том, что ангел является лирической героине во время радения:
То вчерашний ли хмель,
Или жаркая вьюга, круженье, пенье,
радельный вечер.[7]
Ангел называется «крылатым гостем», что отсылает к белому голубю, основному христологическому образу хлыстовства. Далее в тексте появляется образ корабля, летящего по воздуху, — «кораблями» назывались хлыстовские общины, и в сектантской эсхатологии они воспаряют во время судного дня. К тому же ощущение «парения» сектанты описывали как характерное во время радений. И в других текстах сборника образ голубя встречается не раз — в него обращается лирическая героиня, ее возлюбленный, Христос, Богородица или родина. Или Святой Дух, чье пришествие в тело совершающего радение также описывает Радлова:
Птица над домом моим кружит,
птица в сердце мое летит.
Грудь расклевала, клюет и пьет,
теплая кровь тихонько поет.[8]
Для большинства авторов эпохи Серебряного века своеобразие хлыстовства вторично, первична броскость и новизна его базовых образов, исходящее от них ощущение тайны. Эткинд пишет про эссе Цветаевой «Хлыстовки»: «Как и в большей части других опытов литературного переложения русского сектантства, хлыстовство здесь — сильная и экзотическая метафора, подчеркивающая национальные корни авторской жизни и открывающая ей новые, незаезженные пути»[9]. Такая метафора смотрится в поэтике автора сознательно чужеродно и «работает» не вследствие многообразия скрывающихся за ней смыслов, а ввиду противопоставления «ординарной» метафорике автора.
Для Радловой же сектантство и стало «ординарной» метафорикой, потому что она научилась вкладывать в эти образы собственные смыслы, они стали частью ее поэтического языка. Индивидуализируя их характер и случаи использования, поэтесса возвращает им утерянные ввиду общей экзотизации смыслы. Она взаимодействует с актуальными понятиями словаря хлыстовства так, как это делали сами сектанты — не на уровне веры, но на уровне понимания и употребления слов в повседневной (поэтической) практике. Пожалуй, это тоже относится к категории достоверности.
Примечания
[1] К. Чуковский. Искалеченный Шекспир // Правда, 25 ноября 1939 г., № 326 (8011). С. 4.
[2] Б. Пастернак. Письмо к родителям, 29 апреля 1939 г. // Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений: в 11 т. Т. IX. М.: Слово, 2005. С. 150.
[3] Вильям Шекспир. Избранные произведения / Пер. Анны Радловой. Л.: Художественная литература, 1939.
[4] Анна Радлова. Богородицын корабль. Крылатый гость. Повесть о Татариновой / Публикация, предисловие и примечания Александра Эткинда. М.: ИЦ-Гарант, 1996. С. 7.
[5] Там же, с. 30.
[6] Х. Уайт. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. С. 8.
[7] Анна Радлова. Указ. соч. С. 83.
[8] Там же, с. 87.
[9] Там же, с. 9.