Пять книг по исторической макросоциологии: от простого к сложному
От рождения капитализма до критики американской гегемонии
1. Георгий Дерлугьян. Как устроен этот мир. Наброски на макросоциологические темы. М.: Издательство института Гайдара, 2013
 Книга профессора Нью-Йоркского университета Абу-Даби Георгия Дерлугьяна даст базовое представление об исторической макросоциологии даже тем, кто впервые слышит это словосочетание. Неизменное достоинство книг, лекций и интервью Дерлугьяна — умение предельно доступно и наглядно излагать самые сложные теории, используя факты из собственной биографии. «В далеком уже 1987 году у меня не было санкции нашего посольства в Народной Республике Мозамбик на личный контакт с гражданином США Иммануилом Валлерстайном. Нервно переминаясь под раскидистой жакарандой напротив входа в легендарный с колониальных времен отель „Полана” в Мапуту, я чувствовал себя угодившим в шпионский роман Грэма Грина», — так начинается рассказ Дерлугьяна о знакомстве с одним из главных макросоциологов современности.
Книга профессора Нью-Йоркского университета Абу-Даби Георгия Дерлугьяна даст базовое представление об исторической макросоциологии даже тем, кто впервые слышит это словосочетание. Неизменное достоинство книг, лекций и интервью Дерлугьяна — умение предельно доступно и наглядно излагать самые сложные теории, используя факты из собственной биографии. «В далеком уже 1987 году у меня не было санкции нашего посольства в Народной Республике Мозамбик на личный контакт с гражданином США Иммануилом Валлерстайном. Нервно переминаясь под раскидистой жакарандой напротив входа в легендарный с колониальных времен отель „Полана” в Мапуту, я чувствовал себя угодившим в шпионский роман Грэма Грина», — так начинается рассказ Дерлугьяна о знакомстве с одним из главных макросоциологов современности.
Статьям и эссе из сборника «Как устроен этот мир» Дерлугьян дает подобающее его стилю определение: «занимательные истории с теоретическим смыслом», написанные в расчете на то, что любой образованный человек сможет читать эту книгу даже в метро, самолете или на ночь глядя. Такой, собственно, и должна быть хорошая научная популяризация — попытка ввести в широкий оборот фундаментальные теории, описывающие возникновение, устройство и изменение современного мира. Заглавия самих статей сборника — под стать общей установке: «А был ли нужен Пиночет?», «Чеченцы — спартанцы Кавказа», «О национальной гордости грузин», «Россия на подвижном горизонте Америки» и т. д.
Одно из главных достоинств исторической макросоциологии заключается в том, что в затянувшуюся эпоху всеобщего подозрения к «большим нарративам» она не боится заявлять о готовности предоставить ключи, а то и отмычки к правильному пониманию реальности — в чем, собственно, и состоит смысл и пафос заглавия книги Дерлугьяна. И эти ключи, позволяющие заглянуть за сцену социального действа, доступны по большому счету каждому, кто привык внимательно наблюдать за привычными картинами. Вот характерный пример того, как макросоциологические сюжеты прорастают из повседневной реальности (эссе «О нашем месте в истории»):
«Где-то на улице большого города сегодня русская женщина покупает заурядный пучок бананов для своего единственного ребенка. Женщина разведена, как многие из ее подруг, и имеет высшее образование. Она горожанка во втором или третьем поколении, работающая в каком-то государственном бюрократизированном учреждении или в частном бизнесе, так или иначе отпочковавшемся от той же государственной структуры. Все это, конечно, результаты коренной трансформации ее общества в период советской военно-промышленной индустриализации.
Бананы выросли на индустриальной плантации в Эквадоре, созданной американской транснациональной корпорацией, для чего вырубили немало гектаров тропического леса и регулярно вносят массу химикатов, смываемых дождями в реки и далее в мировой океан. Фрукты привезли в Москву через перевалочную базу в Роттердаме на польском дальнобойном грузовике.
Продает бананы азербайджанский торговец. У него аж пятеро братьев, и все они более или менее нелегально находятся на заработках где-то в России. Учитывая известные нам обстоятельства, воплощенные в милицейском наряде у входа на рынок, азербайджанский микропредприниматель скорее всего действует под прикрытием фиктивной жены из бывших ивановских ткачих. Милиционер, сам родом из пришедшего в упадок уральского промышленного поселка, все это видит насквозь, и вдобавок знает, что никто на этом рынке не платит даже десятой части налогов, но не эти налоги и пошлины собирает милиционер...
Какие глобальные процессы мы наблюдаем в этой обыденно повторяемой микроситуации? Рыночную глобализацию, демографические тренды, экологическое давление на природу планеты, мировую миграцию, эрозию государственности, столкновение цивилизаций? Конечно, можно легко отделаться стандартным ответом из американских тестов — all of the above, все перечисленное выше. Но в какой системной взаимосвязи, в какой причинно-следственной последовательности анализировать эмпирическую картинку? Что вытекает из чего? И не упускаем ли мы чего-то главного? Думаю, главное тут — не отдельная проблема, а метаусловие большинства мировых проблем. Это ломка деревенских структур жизнеобеспечения».
2. Эрик Хобсбаум. Эпоха крайностей. Короткий ХХ век, 1914–1991. М.: Независимая газета, 2004
 Творчество Эрика Хобсбаума — возможно, самого авторитетного британского историка ХХ века — дает хорошее представление о тех пунктах, где история пересекается с социологией, и затем две дисциплины сливаются до почти полной неразличимости. Книги Хобсбаума можно читать и как увлекательное историческое повествование, однако из них невозможно устранить социологические установки автора, на протяжении всей своей долгой жизни открыто симпатизировавшего марксизму. Собственный теоретический вклад Хобсбаума в социологическую интерпретацию истории — концепция «изобретения традиции», близкая к идеям, высказанным Бенедиктом Андерсоном в его знаменитой книге «Воображаемые сообщества». Традиция, подчеркивает Хобсбаум, всегда является чем-то современным, даже когда апеллирует к некой незапамятной древности: сама необходимость обращения к традиции и является свидетельством того, что это прошло безвозвратно ушло.
Творчество Эрика Хобсбаума — возможно, самого авторитетного британского историка ХХ века — дает хорошее представление о тех пунктах, где история пересекается с социологией, и затем две дисциплины сливаются до почти полной неразличимости. Книги Хобсбаума можно читать и как увлекательное историческое повествование, однако из них невозможно устранить социологические установки автора, на протяжении всей своей долгой жизни открыто симпатизировавшего марксизму. Собственный теоретический вклад Хобсбаума в социологическую интерпретацию истории — концепция «изобретения традиции», близкая к идеям, высказанным Бенедиктом Андерсоном в его знаменитой книге «Воображаемые сообщества». Традиция, подчеркивает Хобсбаум, всегда является чем-то современным, даже когда апеллирует к некой незапамятной древности: сама необходимость обращения к традиции и является свидетельством того, что это прошло безвозвратно ушло.
В предисловии к «Короткому ХХ веку» Хобсбаум предупреждает, что его книга — это не рассказ о событиях 1914–1991 годов (значительную часть которых он застал лично), а опыт понимания логики этого периода: «Мир, начавший трещать по всем швам в конце 1980-х годов, сформировался под влиянием революции 1917 года в России. На всех нас лежит ее отпечаток, поскольку мы привыкли думать о современной промышленной экономике в терминах бинарной оппозиции „капитализм” и „социализм” — как об альтернативах, исключающих одна другую. Термин „социалистическая” отождествляется с экономикой, организованной по образцу СССР, „капиталистическая” — со всей остальной экономикой. Сейчас становится ясно, что это разделение являлось произвольным и до некоторой степени искусственным и понять его можно только в определенном историческом контексте».
«Для большинства человечества Средневековье кончилось только после Второй мировой», — эта известная мысль Хобсбаума служит хорошей иллюстрацией масштабов исторической длительности, которыми он оперировал. Такой подход к осмыслению истории неизбежно предполагает открытый финал, смысл событий прошлого будет постоянно проясняться и уточняться в будущем: «Как и почему капитализм после Второй мировой войны, ко всеобщему и своему удивлению, стал развиваться ускоренными темпами, вступив в беспрецедентную и, возможно, аномальную „золотую эпоху” 1947–1973 годов, вероятно, является основным вопросом, стоящим перед историками двадцатого века, по которому до сих пор нет согласия. Я тоже не претендую на истину в последней инстанции. Может быть, более глубокий анализ должен подождать до того времени, когда в ретроспективе „длинный цикл” второй половины двадцатого века можно будет увидеть полностью. Однако, хотя мы сейчас и можем дать в целом оценку „золотой эпохе”, кризисные десятилетия, которые мир пережил после нее, еще не закончились (по крайней мере, ко времени написания этих строк). Но о чем уже можно говорить с большой уверенностью, так это о необычайных масштабах и последствиях экономических, социальных и культурных преобразований — наиболее быстрых и фундаментальных в известной нам истории человечества...»
3. Ричард Лахманн. Капиталисты поневоле. Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010
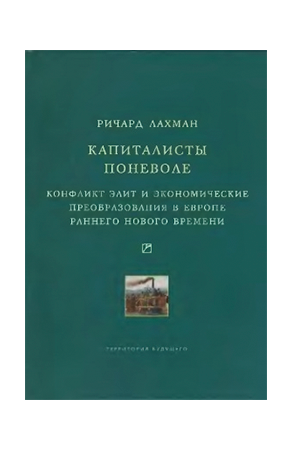 В книге профессора сравнительной, исторической и политической социологии Университета штата Нью-Йорк в Олбани Ричарда Лахманна представлено увлекательное и нетривиальное описание процесса, известного как «переход от феодализма к капитализму». Всякий, кто хоть немного помнит этот раздел школьного курса истории, скорее всего, обращал внимание на то, что этот переход оказался каким-то слишком уж затяжным. В самом деле, от какой точки отсчитывать историю капитализма — от итальянских буржуазных республик позднего Средневековья, от «буржуазной» революции в Голландии во второй половине XVI века или же от промышленного переворота рубежа XVIII–XIX веков? Лахманн, обращаясь к европейскому материалу этого четырехвекового периода, показывает, что подъем капитализма на самом деле состоялся не благодаря «зарождающейся буржуазии», а потому, что сами феодалы, столкнувшись с системным кризисом феодализма, невзначай его демонтировали и стали теми самыми «капиталистами поневоле».
В книге профессора сравнительной, исторической и политической социологии Университета штата Нью-Йорк в Олбани Ричарда Лахманна представлено увлекательное и нетривиальное описание процесса, известного как «переход от феодализма к капитализму». Всякий, кто хоть немного помнит этот раздел школьного курса истории, скорее всего, обращал внимание на то, что этот переход оказался каким-то слишком уж затяжным. В самом деле, от какой точки отсчитывать историю капитализма — от итальянских буржуазных республик позднего Средневековья, от «буржуазной» революции в Голландии во второй половине XVI века или же от промышленного переворота рубежа XVIII–XIX веков? Лахманн, обращаясь к европейскому материалу этого четырехвекового периода, показывает, что подъем капитализма на самом деле состоялся не благодаря «зарождающейся буржуазии», а потому, что сами феодалы, столкнувшись с системным кризисом феодализма, невзначай его демонтировали и стали теми самыми «капиталистами поневоле».
В результате вместо железной поступи исторических формаций — от рабовладения к феодализму, от феодализма к капитализму и т. д. — перед нами предстает совершенно иная картина: «Вместо ведущего рычага изменения или эссенциалистского разворачивания государственной системы или капитализма, мы обнаружим весьма случайное развитие разных политик и экономик. Хотя люди были агентами изменений, они не собирались создать то общественное устройство, которое в результате возникло. Средневековые общественные акторы хотели только улучшить или сохранить свое положение. Индивидуумы и группы шли на изменения, чтобы решить свои проблемы, которые они определяли в рамках существовавшего контекста их обществ, эпохи Средневековья или раннего Нового времени. Все долгосрочные изменения были неожиданными».
В некотором смысле книгу Лахманна можно считать образцовым историко-макросоциологическим исследованием, задающим некий канон этой дисциплины. В самом начале — теоретическая часть, далее — разбор конкурирующих теорий, после чего можно переходить к анализу эмпирического материала. Но в том и состоит важное достоинство многих макросоциологических трактатов, что неподготовленный читатель может сначала обратиться к исторической их части, а мудреную социологию оставить на потом. Поэтому если начало книги Лахманна покажется вам непроходимым, смело пролистывайте вводные разделы, к которым можно будет вернуться после, и начинайте чтение с третьей главы — «Пределы городского капитализма», где речь идет прежде всего о перипетиях борьбы за власть в итальянских городах-государствах. Здесь изложение материала приобретает хронологическую последовательность, направляемую общей концепцией. Вот характерный образец стиля Лахманна:
«Флорентийские банкиры были новаторами в рациональной экономической технике. Когда флорентийцев прогнали с наиболее доходных средиземноморских торговых маршрутов из-за слабости их военного положения, они обратились к менее доходной торговле шерстью и построили беспрецедентную сеть филиалов по всей Европе. Эта сеть дала флорентийцам технические средства, необходимые для того, чтобы стать папскими банкирами, а их неспособность сражаться за гегемонию в Средиземноморье ликвидировала основной источник потенциального геополитического конфликта с папством. Флорентийцы развили массу техник для облегчения торговли и перевода денег через свою систему филиалов. Это был их великий вклад в создание рациональных техник капиталовложений и денежного обмена. Но следует помнить, что флорентийцы стали новаторами поневоле. Они занялись папскими финансами и обменом денег на континенте как второсортным делом, потому что их вытеснили с более выгодных дальних торговых маршрутов, на которых господствовали венецианцы и генуэзцы».
Далее Лахманн переходит к формированию нового типа государства во Франции и Англии, отдельную большую главу посвящает эпическому противостоянию Испании и Голландии, рассматривает тесно переплетенные религиозные и земельные конфликты XVI–XVII веков. В конечном итоге в фокусе его анализа оказываются европейские элиты, которым приходилось искать стратегии приспособления к стремительно меняющейся реальности, — примерно ту же самую задачу элиты во всем мире решают и сейчас, что делает книгу Лахманна вполне злободневным чтением:
«Капитализм и национальные государства были созданы не визионерами, не великими стратегами, не навязчиво-маниакальными протестантами. Элиты и неэлиты были одинаково рациональны в том, что понимали свои интересы, знали, какую угрозу им представляют их враги, могли аккуратно оценить относительные возможности каждой стороны и выбрать союзников в своей борьбе, основываясь на хладнокровном расчете, а не на сентиментальных побуждениях или традиции. Новые социальные отношения и политические институты Европы раннего Нового времени развивались шаг за шагом, когда осторожные элиты пытались сохранить те привилегии и полномочия, которыми они уже пользовались. Те немногие элиты, чьи серии по большей части оборонительных маневров произвели гигантские и непредсказуемые изменения в их обществах, никогда не намеревались создавать новые социальные отношения или новые способы производства. Они в действительности были капиталистами поневоле».
4. Иммануил Валлерстайн. Мир-система Модерна, I-IV. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015–2016
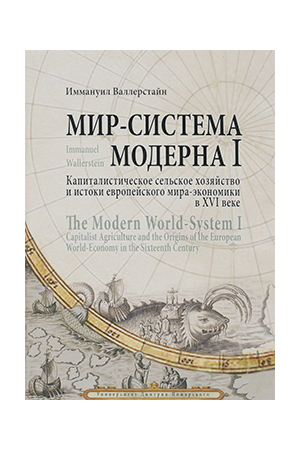 Основной темой главной работы Иммануила Валлерстайна также является возникновение и развитие капитализма — но уже на глобальном уровне. Зародившись в пределах европейского мира-экономики, капитализм за несколько столетий эволюционировал в систему, которая по своему масштабу совпала с размерами земного шара, и Валлерстайну оставалось только написать историю этой системы, растянувшейся как минимум на четыре увесистых тома (над пятым он работал почти до самой смерти, недавней).
Основной темой главной работы Иммануила Валлерстайна также является возникновение и развитие капитализма — но уже на глобальном уровне. Зародившись в пределах европейского мира-экономики, капитализм за несколько столетий эволюционировал в систему, которая по своему масштабу совпала с размерами земного шара, и Валлерстайну оставалось только написать историю этой системы, растянувшейся как минимум на четыре увесистых тома (над пятым он работал почти до самой смерти, недавней).
Чтение «Мир-системы Модерна» стоит начинать с тех предисловий, которые Валлерстайн написал к каждому тому последнего прижизненного издания этой книги в 2011 году. За почти четыре десятилетия, которые прошли с момента публикации первого тома, мир-системный анализ из рискованного интеллектуального предприятия самого Валлерстайна стал респектабельным исследовательским направлением, поэтому автор «Мир-системы» в этих предисловиях позволяет себе взгляд со стороны как на основные идеи и термины своей концепции, так и на дискуссию вокруг нее.
«Я хотел бы начать с того, как я понимал свою задачу во время написания книги. Я уже объяснял, как пришел к ее замыслу, во введении к первому тому. В тот момент я придерживался ошибочной идеи, что смогу лучше понять траектории развития „новых наций” ХХ века, изучив то, каким образом такие же „новые” нации XVI столетия стали „развитыми”. Ошибочной эта идея была потому, что из нее следовало, будто все государства параллельно следовали независимыми курсами к некоему состоянию „развитости”. Однако эта ошибочная идея обернулась счастливым случаем: именно она побудила меня изучать материалы, посвященные Западной Европе XVI века, и обратить внимание на совершенно неожиданные факты», — рассказывает Валлерстайн о первоначальном замысле своего труда.
Действие первого тома «Мир-системы Модерна» разворачивается в «долгом шестнадцатом веке», границы которого Валлерстайн очерчивает с середины XV столетия до начала Тридцатилетней войны. Эта часть его книги — самая сложная для чтения как минимум потому, что она изобилует невероятным количеством сносок (по несколько сотен в каждой из шести глав), а главное, сама концепция капитализма как мировой системы, возникшей в XVI веке, еще находится в состоянии становления, поэтому Валлерстайну приходится постоянно вступать в спор с современными ему историками, что постоянно уводит его от основного сюжета. Тем не менее в последующих переизданиях Валлерстайн не стал ничего менять в содержании книги, которая принесла ему всемирную известность, и даже предложение вынести ссылочный аппарат в конец воспринимал без энтузиазма.
Поэтому читателю, который задастся целью одолеть «Мир-систему», можно посоветовать начинать знакомство с ней с четвертого тома — «Триумф центристского либерализма», посвященного «долгому девятнадцатому веку» (от Великой французской революции до Первой мировой войны). Здесь изложение материала максимально напоминает «традиционный» исторический трактат, а затем — обзорную работу по истории социальных движений.
В предисловии к четвертому тому Валлерстайн так описывал свой грандиозный замысел: «В первом томе, охватывающем „долгий” XVI век, изложена история создания мир-системы Модерна и некоторых ее основных экономических и политических институтов. Второй том является историей не новой феодализации, а консолидации европейского мира-экономики в период с 1600-х по 1750-е годы; здесь предпринята попытка объяснить то, каким образом капиталисты в разных зонах мира-экономики реагировали на такое явление, как всеобщий медленный рост. Третий том, в подзаголовке которого обозначен промежуток с 1730-х по 1840-е годы, — это история возобновившейся экспансии (и экономической, и географической) капиталистического мира-экономики. Четвертый том, который, по моему замыслу, должен охватить период 1789–1873/1914 годов, посвящен созданию (причем только в этот поздний момент) геокультуры для мир-системы Модерна — геокультуры, главным образом формируемой и направляемой тем явлением, которое я называю центристским либерализмом...
Если пятый том, как я рассчитываю сейчас (хотя все может измениться в процессе его написания), займет промежуток с 1873 по 1968/89 годы, то должен быть и шестой (если я смогу его закончить), темой которого станет структурный кризис капиталистического мира-экономики. Временные рамки шестого тома будут начинаться с 1945/1968 годов и длиться где-то до середины XXI столетия — скажем, до 2050 года. А тогда уже, как я предчувствую, мы окажемся в принципиально новой ситуации. Мир-система Модерна к тому времени потерпит окончательный крах, уступив место своему преемнику или преемникам — еще неизвестным и непостижимым, характеристики которых пока невозможно очертить».
5. Майкл Манн. Источники социальной власти. Т. I–IV. М.: Издательский дом «Дело», 2018–2019
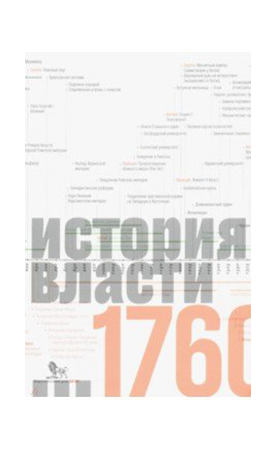 Прочесть от доски до доски капитальный труд Майкла Манна, которого часто называют Максом Вебером нашего времени, — еще более непростая задача. В обновленной версии книга, первый том которой Манн представил еще в 1986 году, содержит без малого три тысячи страниц! Российские издатели монументальной работы Манна — пожалуй, последнего из важнейших макросоциологических трактатов, переведенных на русский, — приняли правильное решение, выпустив в свет сначала четвертый том книги, посвященный событиям после 1945 года. Здесь Манн демонстрирует все достоинства не только исторического социолога, но и убежденного критика американской гегемонии:
Прочесть от доски до доски капитальный труд Майкла Манна, которого часто называют Максом Вебером нашего времени, — еще более непростая задача. В обновленной версии книга, первый том которой Манн представил еще в 1986 году, содержит без малого три тысячи страниц! Российские издатели монументальной работы Манна — пожалуй, последнего из важнейших макросоциологических трактатов, переведенных на русский, — приняли правильное решение, выпустив в свет сначала четвертый том книги, посвященный событиям после 1945 года. Здесь Манн демонстрирует все достоинства не только исторического социолога, но и убежденного критика американской гегемонии:
«Громогласные заявления США внутри страны об их демократической миссии в Западном полушарии были в основном показными. В реальности предпочтение отдавалось авторитарной стабильности... Американский бизнес, связанный с интенсивной эксплуатацией рабочей силы в странах Западного полушария (прежде всего на плантациях), был заинтересован в подавлении левых, чтобы удержать низкими зарплаты. Поскольку именно эта группа капиталистов активнее других лоббировала свои интересы в Вашингтоне, политическую паранойю трудно отделить от их корыстных интересов... В Западном полушарии империя США в общем и целом препятствовала процессам установления мира, экономического развития и демократизации... США поддерживали выборы, если там побеждали их союзники, но стоило дяде Сэму услышать о планах земельной реформы или о перераспределении доходов, как его рука тянулась к револьверу... Хотя основная ответственность за страдания, выпавшие на долю Латинской Америки, ложится на местные режимы, США упорно усугубляли меру этих страданий».
Но если читатель ожидает увидеть нечто подобное в первом томе «Источников социальной власти», то его ждет глубокое разочарование при встрече с настоящей академической социологией. Впрочем, как и многие другие историко-социологические трактаты, вводные главы первого тома можно оставить «на закуску», о чем говорит и сам Манн. Хотя концепцию, лежащую в основе «Источников социальной власти», можно изложить на одном листе бумаги — в чем, собственно, и состоит главный отличительный признак любой хорошей теории.
Ключевая идея главной книги Манна (а также ряда других его работ) заключается в том, что власть в обществе имеет четыре основы — идеологическую, политическую, экономическую и военную. Эту базовую матрицу Манн проецирует на всю человеческую историю от неолитической революции до глобального финансово-экономического кризиса 2008 года, фактически отказываясь от более привычного стадиального или формационного подхода. Меняется только комбинаторика элементов внутри матрицы (при этом Манн отказывается выстраивать иерархию источников социальной власти), сами же эти элементы на протяжении тысячелетий остаются неизменными. Тем не менее Манн принципиально отказывается от сомнительных лавров изобретателя очередной «теории всего». «Социальная реальность, — пишет он в предисловии к своему magnum opus, — достаточно сложна, чтобы нанести поражение всем попыткам людей полностью постичь свое положение в мире, и это также наносит поражение теории рационального выбора, которую отстаивают некоторые позитивисты. Вот почему я предлагаю в большей мере некую модель, а не жесткую теорию».
* * *
Напоминаем про предыдущие выпуски рубрики «От простого к сложному»: