Против течения
«Он ни с кем»: Иван Давыдов к двухсотлетию Алексея Константиновича Толстого
Алексей Толстой (1817–1875) — автор исторических романов и трагедий, поэт, один из создателей образа Козьмы Пруткова. По просьбе «Горького» в честь двухсотлетия со дня рождения писателя Иван Давыдов объясняет, почему А. К. Толстой не уступает другим знаменитым литераторам из рода Толстых.
Книжные полки в любой интеллигентской квартире (слово «интеллигент» ведь все-таки выжило — не затоптал интеллигента интеллектуал) не дадут соврать: во-первых, дефицита Толстых в России не было; во-вторых, носители славной и древней фамилии испытывали — и на наше счастье продолжают испытывать — тягу к заполнению бумаги буквами. Что это за полки, если нет на них Толстого Льва Николаевича? Лев Николаевич — многотомная глыба. Вся русская жизнь за этими переплетами. Нет, разумеется, люди, успевшие поучиться в советской школе, твердо помнят, что глыба — это вообще Горький. Допустим. Но Лев Николаевич, что, не глыба? Алексей Николаевич, советский граф, в разных отношениях сомнительный, но любимый, как собственное детство, — за экспрессивного Петра, Аэлиту (Марс — наш!) и, конечно, за гиперболоид. Татьяна Никитична, вальяжная и строгая, — задевать не станем. Ну, для гурманов, собиравших «Литературные памятники», — еще «Путешествие стольника Петра Толстого по Европе». Не просто путешественник — большая фигура, всем вышеупомянутым Толстым общий предок. И — обязательным огоньковским четырехтомником — граф Алексей Константинович, серьезный, двухсотлетний юбилей которого наступил. Нет повода не вспомнить.
Как он мог не попасть на интеллигентскую книжную полку (она же — история русской литературы)? Попробуй не попади, если в раннем детстве, чтобы тебя развлечь, сочиняют сказку, которую потом в учебниках назовут «первой авторской детской книгой на русском языке». Место действия — село Погорельцы Черниговской губернии, автор — Алексей Перовский (прозрачный псевдоним — Антоний Погорельский). Книга — «Черная курица или подземные жители». Вдохновитель и первый читатель — Алексей Толстой, племянник и воспитанник Перовского. После такого отступать некуда: даже если пойдешь по дипломатической части — все равно станешь писателем. Он и стал.
Но в истории русской литературы при этом — в тени великих однофамильцев и прочих великих (что, видимо, ощущал: написал ведь правильного, исторически выверенного «Царя Бориса» отчасти в противовес пушкинскому «Борису Годунову», но явно не по плечу себе выбрал соперника; впрочем, к пикировкам с Пушкиным вернемся под занавес). Биография — скучная, ярким пятном в ней разве что его веку несвойственная (а наш — неудивляющая) смерть от передозировки. Но и здесь без тайн: нет, Алексей Толстой не наш де Куинси. Лечился по предписанию врача морфием от головной боли, ошибся с дозировкой, ушел в вечность.
Стихи, в которых риторика слишком часто побеждает поэзию, да еще (что для его века, конечно, простительно, но в наш — коробит) неизбежные глагольные, в том числе прямо-таки вызывающие: «зарывает — зарубает». Для своего времени часто мелодичные, звучные. Чайковский почувствовал, сделал знаменитым толстовское «Средь шумного бала». Но нас страшный ХХ век приучил к другой музыке. Проза — от первого литературного опыта, «Упыря», и до масштабного «Князя Серебряного» — нынче кажется хоть и добротным, но скорее детским чтивом. Кстати, как не вспомнить: экранизация «Упыря» — «Пьющие кровь» 1991 года — едва ли не первый советский фильм ужасов. Фильм, как и положено позднеперестроечному кино, чудовищный. Но, увы, не страшный.
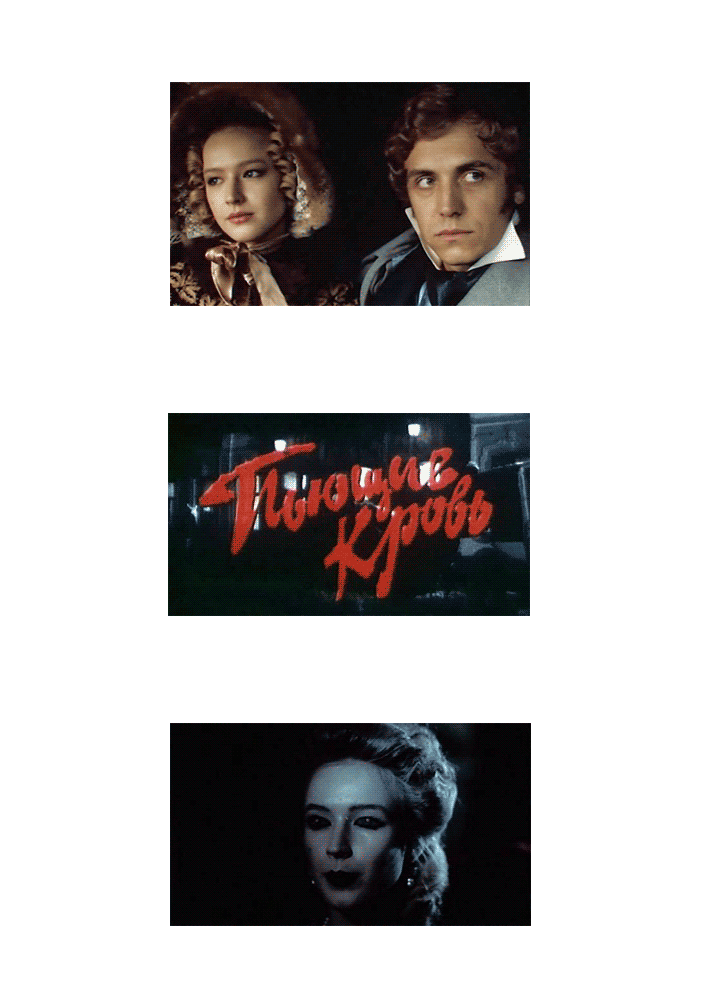
Кадры из к/ф «Пьющие кровь» (1991 год)
Фото: getmovies.ru
В общем, получается, не глыба. Антиквариат второго ряда для скучающих эрудитов, любящих щегольнуть цитатой из автора, которого не всякий наизусть помнит. Вроде бы — да, но нет. Есть у Толстого такое стихотворение, если не манифест, — «Против течения». Там как раз риторика поэзию топчет, как хочет, но важно уже название, в нем — кредо. Он ни с кем. Слишком консерватор для либералов (осмеливался как минимум в письмах без восторга отзываться об «эмансипации», то есть отмене крепостного права; заодно помянем, что в детстве граф входил в ближний круг наследника престола, будущего Александра II, царя-освободителя, а в зрелом возрасте числился в придворных). Слишком западник для патриотов. Слишком сконцентрированный на русской истории для западников. Слишком ненавидящий муз с харитами для запоздавших классицистов. И просто откровенно ненавидящий передовых людей, героев своего века. Ни с кем рядом не вставший. Немного сноб, одиночка, которому тесно в России — с консерваторами тесно и с либералами тесно.
Чтобы от этой тесноты убежать, он придумал себе собственную Древнюю Русь. В которой деспотам-царям с татарскими ухватками противостоят благородные рыцари-аристократы. Не было, конечно, никогда такой России — но трудно не вздрогнуть, читая, как Василий Шибанов, верный раб своего господина, вольнодумца Курбского, дерзит грозному Ивану, понимая, что смерть неизбежна и будет страшна. Дерзит, не обращая внимания на то, что грозный Иван давно уже пробил ему ногу посохом.
А вокруг — похожая на ад Москва, в описании которой уже слышится намек на страшную музыку ХХ века, на новый язык, которым русская поэзия еще только будет говорить:
В ответ властелину гудят терема,
Звонит с ним и Вяземский лютый,
Звонит всей опрични кромешная тьма,
И Васька Грязной, и Малюта,
И тут же, гордяся своею красой,
С девичьей улыбкой, с змеиной душой,
Любимец звонит Иоаннов,
Отверженный Богом Басманов.
В конце концов, есть ли какая-то там настоящая Россия — вопрос открытый; любим мы России, которые для нас придумали сограждане, умевшие красиво расставлять слова. Толстой одну такую Россию изобрел — и, если хотя бы туристом в его Россию заскочить, можно оказаться в местах удивительных.
И этого, в общем, достаточно, чтобы оправдать пребывание огоньковского четырехтомника на интеллигентской книжной полке (она же — история русской литературы). Но в случае с Толстым пафосом не отделаешься, у нас еще не конец разговора. Сам-то он, надо думать, ценил «Князя Серебряного» и драматическую трилогию повыше, чем разные остроумные мелочи. Но что-то теперь кажется наивным, что-то скучным, а вот мелочи устаревать не хотят. Это ведь Толстой, напялив маску директора пробирной палатки Козьмы Пруткова, научил нас ценить абсурд. Ну не он один — но он по преимуществу, говорят специалисты. Толстой написал смешную, почти бесконечную (больше восьмидесяти строф) историю самоуничтожения русской свободы, известную как «История государства российского от Гостомысла до Тимашева»:
Ведь немцы тороваты,
Им ведом мрак и свет,
Земля ж у нас богата,
Порядка в ней лишь нет.

Усадьба Алексея Толстого под селом Красный Рог Брянской области, где 3 сентября 1967 года в сохранившемся флигеле был открыт литературно-мемориальный музей
Фото: nashbryansk.ru
Читатель въедливый может на шедевр наткнуться случайно, читая тексты, которые вовсе для чтения посторонними не предназначались. Например, письма: «Как не верить в так называемое сверхъестественное, когда не далее как на прошлой неделе был такой необыкновенный случай в наших краях, что, рассказывая вам его, я боюсь, что Вы и меня почтете лжецом? А именно: Орловской губернии, Трубчевского уезда в деревне Вшивой горке пойман был управляющим помещика Новососкина, из мещан Артемием Никифоровым — дикий генерал, в полной форме, в ботфортах и со знаком XXV-летней беспорочной службы. Он совсем отвык говорить, а только очень внятно командовал, и перед поимкой его крестьяне, выезжавшие в лес за дровами, замечали уже несколько дней сряду, что он на заре выходил на небольшую поляну токовать по случаю весны, причем распускал фалды мундира в виде павлиньего хвоста и, повертываясь направо и налево, что-то такое пел, но крестьяне не могут сказать, что именно, а различили только слова: „Славься, славься!” Один бессрочно отпускной, выезжавший также за дровами, утверждает, что генерал пел не „славься, славься!”, а просто разные пехотные сигналы. Полагают, что он зиму провел под корнем сосны, где найдены его испражнения, и думают, что он питался сосаньем ботфорт. Как бы то ни было, исправник Трубчевского уезда препроводил его при рапорте в город Орел. Какого он вероисповеданья — не могли дознаться. Один случай при его поимке возродил даже сомнение насчет его пола, а именно: когда его схватили, он снес яйцо величиною с обыкновенное гусиное, но с крапинами темно-кирпичного цвета. Яйцо в присутствии понятых положено под индейку, но еще не известно, что из него выйдет». Извините за длинную цитату, но она, пожалуй, стоит страниц, если не томов Салтыкова-Щедрина.
И совсем напоследок — что-то вроде теста. О нервном отношении графа к солнцу нашей поэзии уже поминалось. Кроме того, Толстой написал небольшой цикл поэтических комментариев к творениям классика — «Надписи на стихотворениях А. С. Пушкина». В финале Толстой цитирует «Царскосельскую статую»:
Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой:
Дева над вечной струей вечно печальна сидит.
И добавляет от себя:
Чуда не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский,
В урне той дно просверлив, воду провел чрез нее.
Прочтите это любому человеку, про которого хотите что-то понять. И если он улыбнется, кивнет понимающе: «мастер делал» — будьте спокойны. С этим человеком есть о чем поговорить. А вот если нет… Тогда аккуратно, стараясь не провоцировать этого опасного своей унылостью субъекта, идите прочь, постепенно ускоряя шаг.