Простое побеждает сложное
Центральная Европа: новое прочтение истории соседей
«Империя олицетворяла и поддерживала глубоко укорененный консервативный идеал свободы — местной и партикулярной, разделяемой членами корпоративных организаций и отдельных общин. Это были локальные и частные свободы, а не абстрактная Свобода, разделяемая в равной мере всеми обитателями».Peter H. Wilson. The Heart of Europe. A History of the Holy Roman Empire. Cambridge, Ms., 2016. P. 12. Так с социально-философской точки зрения описывает устройство древней «Священной Римской империи германской нации» один из наиболее детальных и вдумчивых ее «биографов» — британский историк Питер Уилсон в своей книге «The Heart of Europe. A History of the Holy Roman Empire».
Империя эта уже более 200 лет как мертва,Началом «Священной Римской империи» считается коронация саксонского герцога Оттона I Великого в качестве императора в Риме в 962 году. В 1806 году последний правитель империи, Франц II Габсбургско-Лотарингский, под давлением наполеоновской Франции вынужден был отказаться от своей древней короны, «изобретя» для себя — в качестве обладателя наследственных владений династии Габсбургов — ранее не существовавший титул императора Австрийского. В этом качестве он правил как Франц I до своей смерти в 1835 году. Австрийская империя просуществовала до 1867 года, когда была преобразована в дуалистическую («двуединую») Австро-Венгрию, распавшуюся в результате Первой мировой войны в 1918 году. но замеченная Уилсоном особенность пережила ее. В каком-то смысле речь идет о сути истории Центральной Европы (в последние десятилетия более распространено определение «Центрально-Восточная Европа», ЦВЕ) — того европейского «сердца», где сменяли друг друга консервативные империи, тоталитарные диктатуры и национальные демократии, где границы, по крайней мере до середины ХХ века, были куда подвижнее, чем к западу и востоку от нее, а этническая и культурная чересполосица — гуще и мельче. Это было пестрое пространство, многие века организовывашееся «снизу вверх», от маленьких княжеств и вольных городов — к престолу императора, которого можно было называть по-разному, благо титулов у него имелось в избытке, но вот «самодержавным» — точно нельзя. Какое уж тут самодержавие, если даже избирался де-юре высший светский властитель западного мира коллегией курфюрстов — князей-выборщиков. И каждый раз это сопровождалось политико-дипломатическими сделками: даже в тот долгий период, с середины XV века до начала XIX, когда (с одним коротеньким перерывом) императорская корона оставалась у династии Габсбургов.
В русском историческом сознанииЭто, впрочем, не касается профессиональной историографии, где имеется ряд достаточно подробных и глубоких современных исследований. Продробнее см., напр.: А.И. Миллер. Тема Центральной Европы: история, современные дискурсы и место в них России // «НЛО», 2001. № 52. http://magazines.russ.ru/nlo/2001/52/mill.html тема ЦВЕ и ее прошлого присутствует лишь окраинно — как история пространства между Германией и Россией, по большей части бывшего не субъектом истории, а предметом экспансии соседей. Иногда это пространство, правда, выпускало неожиданные «протуберанцы» — и тогда происходили странные вещи типа появления поляков в Кремле в 1612 году. Потом их изгоняли, и уже русские шли на запад, подчиняя себе сопредельные пространства, вооруженные идеологемой воссоединения чего-то давнего и полузабытого, но вроде бы своего — «отторженное возвратих», как отчеканила Екатерина II на памятных медалях после раздела Речи Посполитой. Идеологема эта жива по сей день: достаточно послушать, например, рассуждения президента Путина о русских и украинцах как «одном народе с немножко другой языковой окраской».Посещение В. В. Путиным Лебединского горно-обогатительного комбината 14 июля 2017 г. http://kremlin.ru/events/president/news/55052
Характерно, что пассивный исторический нарратив закрепился и в самой ЦВЕ — в форме представления об извечной жертвенности здешних стран и народов. Это весьма богатая традиция — от бытовавшего в XIX веке в польской литературе и публицистике образа «Польши — Христа Европы» до эссе Милана Кундеры «Трагедия Центральной Европы»,М. Кундера. Трагедия Центральной Европы https://www.proza.ru/2005/12/16-142 за которое он позднее был довольно хамски обруган в одном из интервью Иосифом Бродским. Тому не понравилось, что в центре текста Кундеры лежит идея «похищения» Центра Россией с ее якобы чуждой центральноевропейскому образу мышления, доминантной, грубой и сосредоточенной только на себе культурой. С другой стороны, по словам венгерского писателя Дьердя Конрада, «наше представление истории ограничивается ретроспективным мечтанием: если бы тогда сложилось по-другому, то все бы пошло гладко. Почти-победы, вроде-достижения, а после горький экстаз самообвинений».Цит. по: А. Ф’ют. Быць (або не быць) сярэднеэўрапейцам. В сб.: Быць або не быць сярэднеэўрапейцам. Сучаснае польскае мысленне. Ред. В. Булгакаў. Мн.: Энцыклапедыкс, 2000. С. 234.
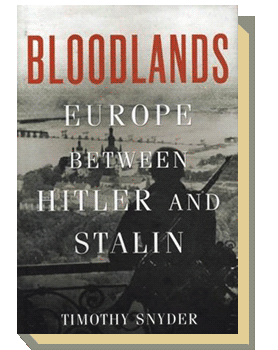 Итого: прочтение истории ЦВЕ — а через историю и современности этого региона — во многом зависит от позиции и культурного бэкгарунда читающего. Конечно, то же можно сказать практически о любой истории. Но в данном случае мы имеем дело с наслоением очень уж большого числа местных и привнесенных мифов, а то и последствий не до конца излеченных исторических травм вроде Мюнхена-1938 или пакта Молотова–Риббентропа. В результате для среднего русского наблюдателя, при всей условности любой «усредненности», ЦВЕ прежде всего пространство геополитической экспансии: российской, немецкой, американской. (Отсюда, например, непропорционально болезненное восприятие расширения НАТО на восток). Для собственно центральноевропейского интеллектуала или иностранца, прочно «вмонтировавшего» себя в местный контекст, вроде британца Нормана Дэвиса или американца Тимоти Снайдера, ЦВЕ — это пространство страданий, несбывшихся надежд, жертвенности и кафкианского абсурда.Своего рода историографическим апофеозом такого подхода — в целом, впрочем, удачным — можно считать работу Т. Снайдера «Кровавые земли» (T. Snyder. Bloodlands. Europe Between Hitler and Stalin. NY, 2010), где история большей части региона ЦВЕ середины ХХ века рассматривается как поле двух колоссальных тоталитарных экспериментов и последующего конфликта нацистской и большевистской диктатур. Своего рода историографическим апофеозом такого подхода — в целом, впрочем, удачным — можно считать работу Т. Снайдера «Кровавые земли» (T. Snyder. Bloodlands. Europe Between Hitler and Stalin. NY, 2010), где история большей части региона ЦВЕ середины ХХ века рассматривается как поле двух колоссальных тоталитарных экспериментов и последующего конфликта нацистской и большевистской диктатур. А для типичного наблюдателя западного — это пример «другой Европы», чье «воображаемое отличие от Запада часто служило способом подтверждения успокаивающей нормальности остальной (то есть Западной — «Горький») Европы».Pieter M. Judson. The Habsburg Empire. A New History. L., 2016. Pp. 11 – 12.
Итого: прочтение истории ЦВЕ — а через историю и современности этого региона — во многом зависит от позиции и культурного бэкгарунда читающего. Конечно, то же можно сказать практически о любой истории. Но в данном случае мы имеем дело с наслоением очень уж большого числа местных и привнесенных мифов, а то и последствий не до конца излеченных исторических травм вроде Мюнхена-1938 или пакта Молотова–Риббентропа. В результате для среднего русского наблюдателя, при всей условности любой «усредненности», ЦВЕ прежде всего пространство геополитической экспансии: российской, немецкой, американской. (Отсюда, например, непропорционально болезненное восприятие расширения НАТО на восток). Для собственно центральноевропейского интеллектуала или иностранца, прочно «вмонтировавшего» себя в местный контекст, вроде британца Нормана Дэвиса или американца Тимоти Снайдера, ЦВЕ — это пространство страданий, несбывшихся надежд, жертвенности и кафкианского абсурда.Своего рода историографическим апофеозом такого подхода — в целом, впрочем, удачным — можно считать работу Т. Снайдера «Кровавые земли» (T. Snyder. Bloodlands. Europe Between Hitler and Stalin. NY, 2010), где история большей части региона ЦВЕ середины ХХ века рассматривается как поле двух колоссальных тоталитарных экспериментов и последующего конфликта нацистской и большевистской диктатур. Своего рода историографическим апофеозом такого подхода — в целом, впрочем, удачным — можно считать работу Т. Снайдера «Кровавые земли» (T. Snyder. Bloodlands. Europe Between Hitler and Stalin. NY, 2010), где история большей части региона ЦВЕ середины ХХ века рассматривается как поле двух колоссальных тоталитарных экспериментов и последующего конфликта нацистской и большевистской диктатур. А для типичного наблюдателя западного — это пример «другой Европы», чье «воображаемое отличие от Запада часто служило способом подтверждения успокаивающей нормальности остальной (то есть Западной — «Горький») Европы».Pieter M. Judson. The Habsburg Empire. A New History. L., 2016. Pp. 11 – 12.
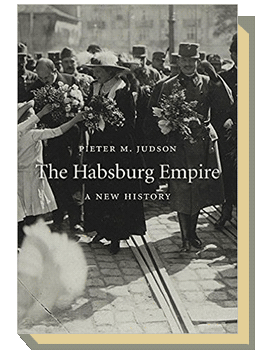 Американо-голландский историк Питер М. Джадсон, которому принадлежит процитированное замечание, в своей книге The Habsburg Empire видит причину в том, что история ЦВЕ по меньшей мере последних сто лет преподносится urbi et orbi в основном как история наций и национально-освободительных движений. Это соответствует принципу «историю пишут победители», ведь главными победителями обеих мировых войн в этом регионе были местные националисты. После 1918 года в ЦВЕ возник ряд новых национальных государств (хотя де-факто большинство из них были многонациональными), а в 1940-х в результате вначале Холокоста, а затем ряда депортаций и этнических чисток была почти полностью уничтожена характерная для региона этнокультурная пестрота. Ей на смену пришло пространство государств либо моноэтничных (Польша, Чехия, Венгрия), либо с явным доминированием одного этноса (Румыния, Словакия и др.).
Американо-голландский историк Питер М. Джадсон, которому принадлежит процитированное замечание, в своей книге The Habsburg Empire видит причину в том, что история ЦВЕ по меньшей мере последних сто лет преподносится urbi et orbi в основном как история наций и национально-освободительных движений. Это соответствует принципу «историю пишут победители», ведь главными победителями обеих мировых войн в этом регионе были местные националисты. После 1918 года в ЦВЕ возник ряд новых национальных государств (хотя де-факто большинство из них были многонациональными), а в 1940-х в результате вначале Холокоста, а затем ряда депортаций и этнических чисток была почти полностью уничтожена характерная для региона этнокультурная пестрота. Ей на смену пришло пространство государств либо моноэтничных (Польша, Чехия, Венгрия), либо с явным доминированием одного этноса (Румыния, Словакия и др.).
Если считать такой результат (пусть даже осуждая методы его достижения) позитивным и желательным, — а в националистической логике иначе быть не может, — то весь предшествующий торжеству национализма период истории ЦВЕ будет выглядеть долгим «царством реакции» и «тюрьмой народов». Именно так, с небольшими вариациями, и толковалась история монархии Габсбургов, объединявшей большую часть региона с XVI по ХХ век, в странах-преемницах фактически до 1990-х годов. При этом возникли и другие исторические аберрации — например, искусственное исключение Германии из пространства ЦВЕ, по отношению к которой она рассматривалась (и часто рассматривается поныне — например, в польском историческом и политическом мэйнстриме) как внешняя и чаще всего враждебная сила.
Между тем заключительная битва за наследие «Священной Римской империи» состоялась по историческим меркам недавно — в 1866 году, когда в результате победы над Австрией и большей частью соседей по Германскому союзу Пруссия обеспечила себе гегемонию на большей части пространства древней империи. Окончательно оформившийся в 1871 году бисмарковский Второй рейх был победой той самой «единообразной» свободы, которую несет современное национальное государство, наделяя граждан общим набором прав и повинностей, над неодинаковыми «партикулярными» свободами пестрой донациональной Германии. При этом единая Германия нечасто воспринимается нами как исторический новодел, хотя на самом деле им является. Более того, образование современной ФРГ можно считать «переучреждением» Германии — с частичным возвратом на новом этапе к «партикулярным» свободам, выраженным в принципах федерализма и широкого местного самоуправления. В историко-идеологическом плане демократическая ФРГ основана на достаточно четком отрицании централистского и милитаристского наследия Пруссии, что проявляется даже в деталях: топоним «Пруссия» не присутствует в названии ни одной из федеральных земель современной Германии.
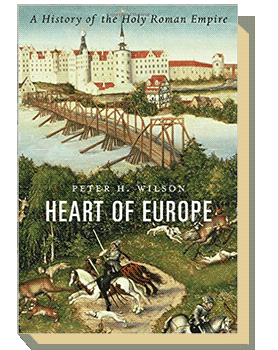 Точно так же, как «Священная Римская империя» в изображении Питера Уилсона была сложной системой организации и регуляции донациональной Германии, Австрийская империя Габсбургов, которую Пруссия в XIX веке «вытолкнула» из германского пространства, играла подобную роль в остальной ЦВЕ — от Карпат до Адриатики и от Вены до Сараево. Питер Джадсон в своей монографии делает упор именно на это, подчеркивая, что работа истории, сознательно или нет, делалась «на встречных курсах» как развивавшимися националистическими движениями, так и имперскими институтами, просто с разными целями: первые стремились к автономизации (требования независимости начали выдвигаться только в период Первой мировой), вторые — к улучшению управляемости. При этом даже после распада Австро-Венгрии «общие элементы имперской практики продолжали определять ожидания многих людей, касавшиеся социальной помощи, воинского призыва или функционирования политической системы... Привычные законы, практики и институты продолжали существовать в новых государствах, которые при этом громко отвергали наследие империи как несовместимое с демократией и национальным самоопределением».Judson, pp. 14 – 15.
Точно так же, как «Священная Римская империя» в изображении Питера Уилсона была сложной системой организации и регуляции донациональной Германии, Австрийская империя Габсбургов, которую Пруссия в XIX веке «вытолкнула» из германского пространства, играла подобную роль в остальной ЦВЕ — от Карпат до Адриатики и от Вены до Сараево. Питер Джадсон в своей монографии делает упор именно на это, подчеркивая, что работа истории, сознательно или нет, делалась «на встречных курсах» как развивавшимися националистическими движениями, так и имперскими институтами, просто с разными целями: первые стремились к автономизации (требования независимости начали выдвигаться только в период Первой мировой), вторые — к улучшению управляемости. При этом даже после распада Австро-Венгрии «общие элементы имперской практики продолжали определять ожидания многих людей, касавшиеся социальной помощи, воинского призыва или функционирования политической системы... Привычные законы, практики и институты продолжали существовать в новых государствах, которые при этом громко отвергали наследие империи как несовместимое с демократией и национальным самоопределением».Judson, pp. 14 – 15.
Благодаря этому долгое время сохранялось, пусть и разделенное новыми границами, общее культурно-бытовое пространство. Некоторые его черты заметны и по сей день, и не только в архитектуре старых городских кварталов или доминировании кофейной культуры. Это, например, забавная деталь: склонность австрийцев и чехов к раннему подъему по утрам считается уходящей корнями в эпоху императора Франца Иосифа (годы правления 1848–1916), который вставал в 4 часа утра, задавая рабочий ритм всей империи.
Этот монарх-долгожитель, не слишком выразительный человек с весьма трагической судьбой, стал предметом довольно солидного числа биографических исследований. Авторы самого недавнего, австрийские историки Карл и Михаэла Воцелка, удачно встраивают психологический портрет императора в историко-политический контекст его долгого правления. Секрет Франца Иосифа, правителя не слишком удачливого, убежденного консерватора, отличавшегося, однако, умением идти на компромиссы и приспосабливаться к меняющимся социально-политическим условиям, его биографы видят в том, что с течением времени он «стал для многих последним символом, который обеспечивал единство монархии».
Императору помогли в этом как долголетие, вызывавшее у подданных «почтение к сединам», так и трагические обстоятельства его жизни (самоубийство сына Рудольфа, гибель супруги Елизаветы от руки анархиста, убийство в Сараево наследника Франца Фердинанда), трансформировавшие человеческое сочувствие Францу Иосифу в политическую лояльность. Этот феномен умело использовала правительственная пропаганда, создававшая образ императорской короны как тернового венца, а престарелого государя — как благородного служителя имперской традиции, стоящего на страже благополучия своих народов.
Само собой, составить долговременную конкуренцию хищному драйву молодых национализмов такая охранительная идеология не могла. Имперский организм нуждался в серьезных преобразованиях, которые готовил эрцгерцог Франц Фердинанд, но совершенно не факт, что, если бы ему удалось избежать пули террориста и взойти на престол, это лишь не ускорило бы гибель империи. В реальности же смертельный удар ей нанесла Первая мировая война, в которую Австро-Венгрия вступила, провожаемая фаталистической фразой 84-летнего императора: «Если монархии суждено пойти ко дну, пусть по крайней мере сделает это достойно».
История постепенного упадка монархии Габсбургов — это история поражения, которое простое наносит сложному. Эпоха массовой политики и национализм как наиболее мощное (наряду с социализмом и коммунизмом) идеологическое выражение этого типа политики сломали сложную систему взаимодействия традиционных и модерных институтов, сложившуюся в Центрально-Восточной Европе к началу ХХ века. Это весьма актуальный урок. Нынешний Европейский союз тоже весьма сложная система, находящаяся сейчас под ударами того, что можно назвать силами упрощения — национализма, популизма, изоляционизма. Как показывает история прошлого столетия, если все гениальное просто, то явно не все простое гениально. Поэтому история Центрально-Восточной Европы заслуживает нового, реалистического прочтения. В том числе и в России, которой, возможно, еще предстоит осознать себя как очень сложно устроенную страну, нуждающуюся в серьезных переменах, рецепты которых явно не будут простыми.