Продажи не важны, перевод не творчество, Сатана наш друг
Интервью с переводчиком и издателем Александром Филипповым-Чеховым
Как вы попали на филфак и начали изучать немецкую литературу? Как проходила учеба?
Довольно случайно попал. Впрочем, для некоторых членов моей семьи было принципиально важным, чтобы я поступил в МГУ, поскольку все Чеховы учились там на разных факультетах. И когда мой дедушка поступил не в МГУ, а потом и мама тоже, возникла проблема, потому что у нас так не принято. А я еще в школе, классе в восьмом, понял, что хочу переводить книжки: делал тогда проект про Хоффманна, чтобы получить немецкий языковой диплом, и подумал, как круто было бы перевести его на русский. Я в то время еще ничего особо не понимал, потом-то обнаружил, конечно, что переводы Хоффманна давно уже есть.
Филфак к переводу никакого отношения не имел, и впечатления от учебы были странные. На момент поступления будущее рисовалось нам радужным, многие верили, что действительно будут заниматься филологией, но ближе к финалу становилось все яснее, что нет. В итоге из всего нашего курса 2003–2008 годов теперь занята делом всего пара человек. На четвертом курсе появился нормальный преподаватель по специальности, Александра Юрьевна Зиновьева, ученица Василия Михайловича Толмачева и Андрея Николаевича Горбунова. Она объяснила, как вообще надо книжки воспринимать, как работать с источниками — грамотно все разложила, и стало понятно, что это все-таки может быть интересно, прежде были сомнения. Еще нашему курсу очень повезло — в то время кафедрой заведовал покойный ныне Георгий Константинович Косиков, были и другие очень хорошие преподаватели (не германисты).
А на раннем этапе вы какой литературой увлекались?
Я читал то, что все читают, муми троллей и прочее. Я из не очень читающей семьи, но у отца была неплохая библиотека, и он часто заставлял нас читать, особенно меня. А мама чтению с нами уделяла много внимания, куча книг была детских, и еще клевые диафильмы. Помню, на меня такое впечатление произвел диафильм «Холодное сердце» по Хауффу, что я пошел на кухню и сунул палец в газ. Кстати, у меня есть теория, что голубой цветок Харденберга-Новалиса — это газ. Харденберг же был геологом. Потом я довольно много всего прочитал в серии «Библиотека всемирной литературы» (сейчас уже не стану пользоваться этими изданиями, слишком много претензий к ним). Это было классно. Особого интереса к немцам я тогда не испытывал, но пара немецких книжек для детей была в числе любимых (не считая всяких немецких сказок и легенд): «Тимм Талер, или Проданный смех» Крюсса и, конечно, трилогия Отфрида Пройсслера про маленького водяного, маленькую ведьму и маленькое привидение. Эстонец Эно Рауд еще, про Муфту, Полботинка и Моховую Бороду, а у брата была крутейшая книжка финна Уско Лаукканена из серии про Пану Понтеву, «Пану Понтева — помощник сыщика». Шикарное такое издание, он мне иногда давал ее читать (недавно я разыскал такую для племянника). Несколько лет назад открыл для себя «Калевалу» и не могу закрыть, покупаю все новые и новые интересные издания. Вообще, мне очень импонируют эпические произведения. Так что читал я всегда бессистемно и беспорядочно, и отчасти поэтому, кстати, мне удобно разговаривать на таком жутком косноязычном койне. Прямое следствие такого вот чтения.
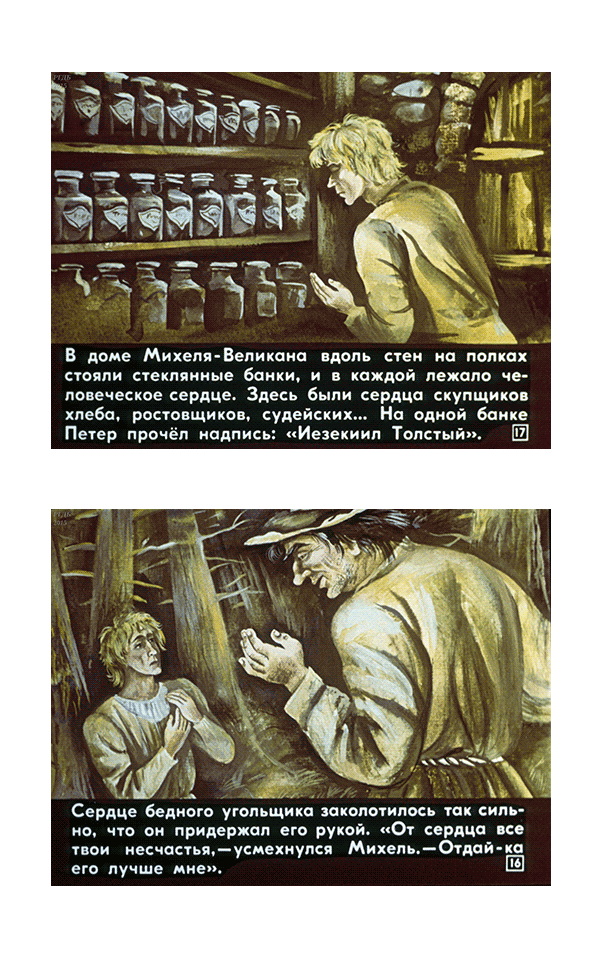
Сейчас вы какому-то определенному литературному периоду отдаете предпочтение?
Я перевожу всегда очень разное, и ХХ век, и современное (хотя современное переводить наименее интересно), и XIX век. XIX гораздо сложнее, конечно, XX века. Чем раньше написано, тем сложнее. И читать чем раньше, тем интереснее. Из современных авторов я для себя, для души, стал бы читать разве что Хайнера Мюллера, но он лет тридцать назад умер, так что тоже не совсем современный.
Вообще главная немецкая книга всех времен — это «Симплициссимус» Гриммельсгаузена. И моя любимая. Он его начал писать, кстати, в семнадцать лет! Это такой curriculum vitae на фоне Тридцатилетней войны. Симплиций живет в мире, который населен не живыми людьми, а архетипами, из этого барочного романа вся немецкая литература вышла: Симплиций родился в Шпессарте, а это ведь место действия многих романтических произведений, его инициация происходит в Ханау, где спустя триста лет родились братья Гримм. И еще очень важная штука. Самый главный немецкий персонаж — это мельник, он как у нас Баба Яга. Мельник существует на границе миров. Вспомните, у того же Пройсслера в «Крабате» мельник — колдун, он мелет костную муку и производит расчеты со смертью напрямую. И Симплиция воспитывает мельник, то есть он с самого начала не такой простой персонаж, каким кажется. Поэтому, например, он и видит водяных, когда под конец романа спускается на дно Муммельзее. (Отсюда и Пройсслер, где мелкий водяной мельнику гадит, и великий роман «Остров Фельзенбург»). А Мюллер — это же «мельник» в переводе, все складывается. Судьба молодого Мюллера, который скитался в последние годы Второй мировой и после, голодал и искал себя, во многом схожа с судьбой Симплиция.
При этом ваша издательская программа формируется в основном вокруг ХХ века.
Не вокруг ХХ века, а вокруг немецкоязычной литературы, написанной до Первой мировой. Вот издадим «Последние дни человечества» Крауса и, возможно, станет понятнее моя издательская концепция — это ключевой для меня текст, водораздел. Все, что после, скорее исключение, просто для развертывания такой программы, четыре года ведь не срок вообще. То, что появилось после Первой мировой, меня меньше всего интересует. И Рильке, допустим, которого мы много издаем, хоть и умер сильно после великой войны, но корни его в литературе fin de siècle.
Перед тем как затеять собственный проект libra, вы работали в издательстве Иностранки. Полезный был опыт?
Я работал в научно-издательском отделе, у нас была практика, и меня от кафедры туда заслали, ну я и остался потом. Уже тогда я начал переводить, лет в девятнадцать-двадцать, но поначалу, конечно, ничего серьезного не брал. Помимо некоторого числа заказных нелепых книжек я там сделал большую библиографию Кафки в русской культуре. Опять же, когда приступал к делу, была иллюзия, что такая библиография кому-то нужна, а когда закончил, стало понятно, что времена изменились и филология как бы закончилась. Но сама работа многому меня научила.
Я всегда повторяю, что библиотеки ни в коем случае не кладбища для книг, это книжная кома: в то время, когда книга не читается и не переводится, она как бы и не живет. Об этом еще Хофманнсталь писал от лица лорда Чандоса. Когда книга в руках у читающего, она выходит из комы и превращается в машину времени, портал в другое измерение и тому подобное. Изучение фонда, его осмысление, осмысление взаимодействий между книгами в фонде, выявление неявных и скрытых их взаимосвязей — вот истинная цель библиотечной работы. Выдача книг на руки читателю — полезная, но не первостепенная задача. Хотя и читатель может помочь.
Кафка ведь поздний автор, чем он вас привлек?
С Кафкой я завязал, хотя почитать его по-немецки вполне неплохо. Он интересовал меня скорее как литературное явление: хотелось понять, откуда возник у нас весь этот хайп вокруг него. Библиография русская большая, больше 1 500 позиций, это много для относительно нового автора, но в России никто не читал его по большому счету, не считая ключевых произведений. То есть все эти упоминания вскользь, как, например, у Ахматовой, — чаще всего за ними ничего не стоит, и настоящей рецепции Кафки у нас, можно сказать, вообще не было. Кафка — это такой миф, и все написанное о нем довольно однообразно. Но, повторюсь, с точки зрения немецкого языка он прям очень интересный автор, такой язык, как будто чувак писал, не прочитав ни одной книжки. Там нет ничего, чистые конструкции в воздухе.
А существовал ли в то время некий единый немецкий литературный язык?
Немецкие языки были разные. Кафка же вообще принадлежит не к немецкой культуре, а к австро-венгерской. В Праге была так называемая Пражская школа, довольно закрытая, куда входили всякие Майринки, Максы Броды и прочие. А Кафка всего этого как будто не воспринимал. То есть мы знаем, что именно он читал, все это досконально изучено, каждое его движение задокументировано. Например, есть огромный биографический трехтомник Райнера Штаха, в каждом томе по 1 000 страниц. Кафка просто писал на своем странном, ни на что не похожем языке.
Не связано ли это с условиями его работы и теми неприятностями, с которыми он как страховщик сталкивался?
Полная ерунда, он прекрасно работал до двух, кажется, часов дня, получал хорошую зарплату, а потом, лет в тридцать, вообще вышел на пенсию из-за туберкулеза. Он работал в очень крупной страховой компании, она до сих пор существует, все у него было хорошо (за исключением туберкулеза, конечно). Кафка был страховым агентом, разрабатывал страховки для рабочих, но, как известно, на стройки выезжал редко, и все их проблемы для него оставались, в общем-то, конструкциями на бумаге.
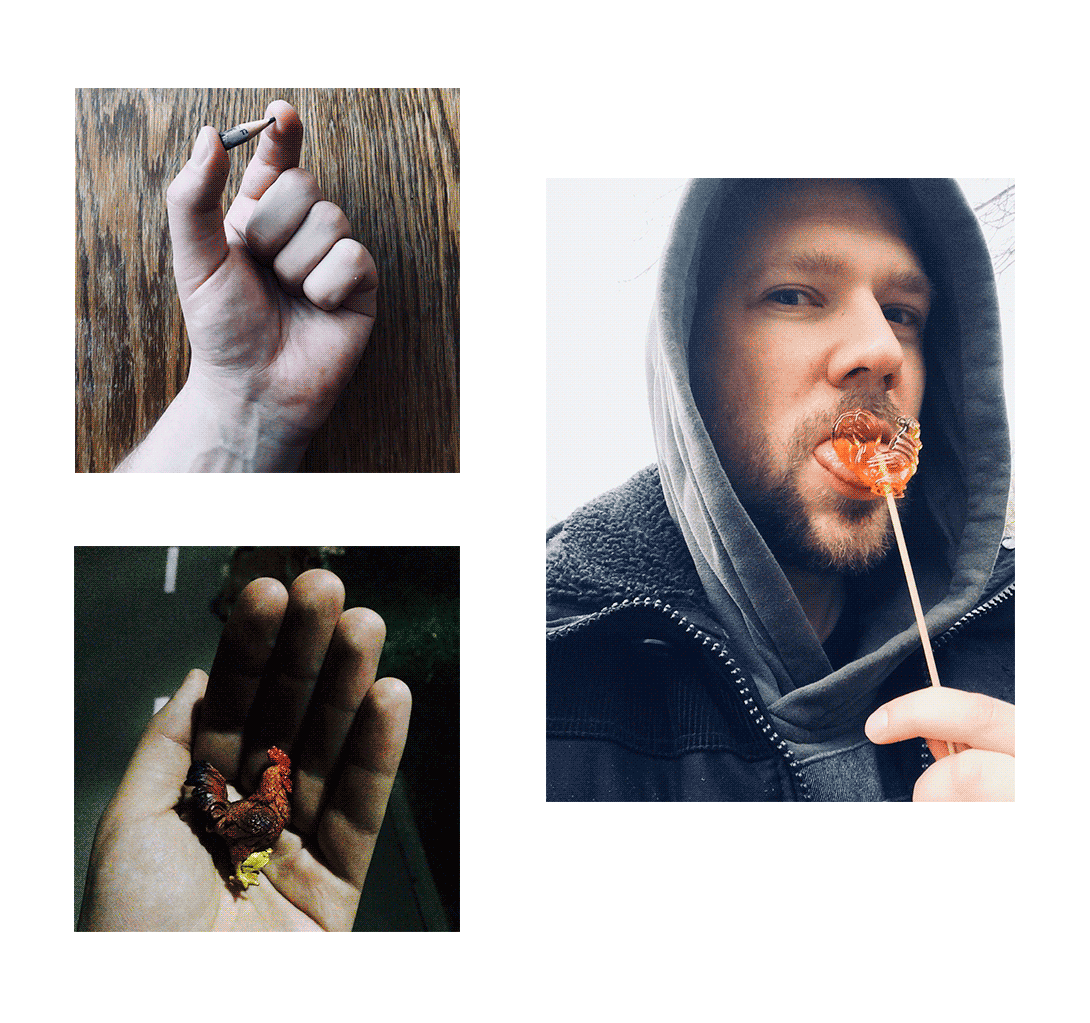
Труды и дни Александра Филиппова-Чехова (коллаж)
Давайте подытожим, что вы вынесли из учебы на филфаке и работы в Иностранке, чтобы перейти к вашему издательству.
С филфака я вышел с очень четким представлением о том, чем я не хочу заниматься. Тогда я для себя определил филологию — и сейчас этого определения придерживаюсь — как перевод, комментирование и издание текстов (комментарий как часть издания). Все остальное, на мой взгляд, некая надстройка, которая мне мало интересна. Когда я вышел из здания, где находится филфак, у меня было четкое ощущение, и оно сохраняется по сей день, что я нахожусь в пустыне и можно все начинать сначала — ничего нет, и надо бы, условно говоря, издавать по-русски Рильке или Хайнера Мюллера. Что никто этого больше не знает, что все это забыто. Кстати, этим объясняется и свойственная книгам libra нетрадиционная передача немецких имен собственных, она идет вразрез с традицией, но я-то исхожу из того, что мы как бы выстраиваем традицию с нуля. Мы и Гёте издавали, поэму «Райнеке лис» в переводе Михаила Достоевского, — для многих она оказалась совершенно новым произведением, открытием. Что касается Иностранки, то это был прекрасный и очень полезный негативный опыт. Конечно, приятно, когда в вашем распоряжении целая библиотека, но происходило это уже в эпоху ее угасания. Я планировал много филологических научных изданий, но все это не нашло отклика у руководства. Сам издательский опыт потом пригодился: я понял, как взаимодействуют редактор и верстальщик, редактор и оформитель. Повторюсь, это негативный опыт, который оказался полезнее позитивного. Вот вы, к примеру, прочитали какую-нибудь клевую книгу по типографике, моего любимого швейцарского типографа Эмиля Рудера, скажем, и бегаете в восторге. А потом вы видите, как это все бывает на самом деле, а не как в учебнике, сталкиваетесь с реальным человеком, который делает реальную книгу, и понимаете, что он делает ровно наоборот. При этом для того, чтобы было классно, нужно просто потратить еще пять минут. Речь идет не о выборе книг, а о чисто технических вещах. И дело не в каком-то устаревшем режиме работы, мы в libra делаем книги по пентаграмме Чихольда и учебнику Рудера — он написан чуть меньше ста лет назад, но по-прежнему все работает. Кстати, когда издательство только задумывалось, одним из самых важных стремлений было делать и оформлять книги по тем законам, которые сформулировали типографы такого уровня. Типографская сторона нашей работы очень важна.
Какие еще были мотивы, чтобы свое издательство организовать?
Я в то время очень много работал как переводчик с самыми разными издательствами и понял, что мне совершенно не нравится работать на заказ, не нравится принятый процесс коммуникации с издателем. С самого начала я понимал, что libra — просто развлечение и окупится оно далеко не сразу (окупилось только спустя четыре года, мы в 2018-м вышли в плюс). Попросту говоря, мне не хочется брать заказы на перевод, и к тому же мне не интересны книги, которые предлагают. А ходить по издательствам, обивать пороги и рассказывать, какую я замечательную перевел книжку, непродуктивно, да и вообще работать в стол для переводчика плохо. Но это не значит, что мы издаем только мои переводы, их было не так много среди книг libra, и чем дальше, тем меньше становится, потому что я очень ленивый и перевожу не больше страницы-другой в день. Я бы не издавал книжки сам, если бы можно было прийти куда-нибудь и реально повлиять на процессы, принести книги, которые мне нравятся, и чтобы их еще и сверстали потом правильно. Но это ведь не входит в компетенции переводчика. Выходит, у меня другие вкусы и кругозор просто. А что касается моего якобы сложного характера, из-за которого я с некоторыми людьми не нахожу общего языка, то он здесь вообще ни при чем — когда работаешь с кем-то, занимаешься делом, хорошо бы его вообще куда-нибудь подальше засунуть, так не бывает почти, но так надо. Важен только результат, остальное не важно. Если есть общее видение результата, все остальное второстепенно.
Как так получилось, что libra выпускает в основном книжки, написанные до Первой мировой? Что это за литература и чем она так важна? Что объединяет ваших авторов?
В основном это то, что мне заходит. Бывают и книги, которые мне совсем не заходят, типа Рильке, который вообще не мой автор. Этих авторов ничего не объединяет, они все очень разные, и только потом, лет через тридцать, если libra продолжит свое существование, все они сложатся в гигантский пазл, корреляционное поле. После филфака сразу понимаешь, чего нет. Рильке весь как бы есть, но нет Рильке про Ворпсведе, а это важный, программный во многом текст, интересное место и период. Или у вас семинар по поэзии барокко, но по-русски практически нет Грифиуса, Ангелуса Силезиуса, Хоффманнсвальдау. Конечно кто-то и на немецком прочитать может. Филфак дает представление о лакунах, а они самого разного рода, и их можно заполнять.
И как происходит выборка?
Конечно, очень клево, когда у книжки есть история. Скоро у нас выйдет роман философа и первого мужа Арендт Гюнтера Андерса «Катакомбы Молюссии». Он написал такой своеобразный роман-притчу, вернее, роман в притчах, про то, как зарождается нацизм, да и вообще любой тоталитарный режим. Из Германии он как еврей вынужден был эмигрировать в Париж — Арендт с помощью Брехта вывезла рукопись, но и в Париже опубликовать книгу не удалось, только в 2012 году она вышла в Германии. Не самая увлекательная история, конечно, но бывают и интересные. Или вот Гёте-Институт прислал пьесу Вольфрама Хёлля на перевод, а она оказалась про меня: там про двух братьев, за окном рушится ГДР, а у них происходят определенные изменения в семье. Очень крутая пьеса, вообще ничего почти непонятно сначала, а потом все понятно. Хёлль — великий драматург, хотя он мой ровесник. Он пишет пьесы как музыкальные партитуры, там не персонажи, а голоса, как дирижеры называют партии разных инструментов. Мы нашли гэдээровский альбом черно-белый для иллюстраций, с видами Дрездена, и поместили на обложку фото дома, который очень похож на тот, где я вырос. Корешок у книги желтый. Я потом на google-картах нашел этот дом. Он тоже был желтым.
Когда я задумывал издательство, составил себе список из сорока-пятидесяти книжек, которые надо сделать, и мы их делаем (если я параллельно обнаруживаю еще что-нибудь интересное, то делаю и это). Как они пришли мне в голову? Самыми разными путями: на протяжении последних лет десяти я понимал, что в литературе трех немецкоязычных стран есть это, это и это.
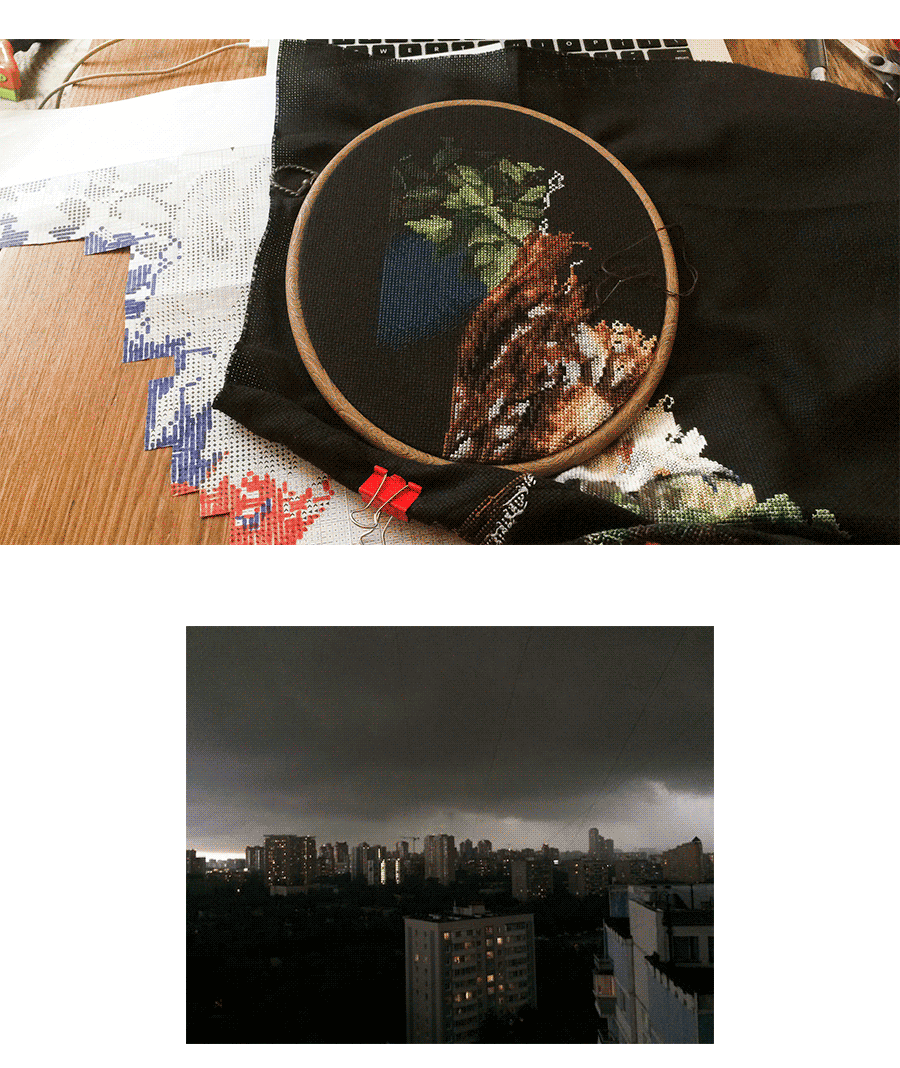
Труды и дни Александра Филиппова-Чехова (коллаж)
То есть, зная, как представлена в России немецкоязычная литературы, вы даете голос тем, кого обошли вниманием?
Ну это далеко не последние люди — не то чтобы мы рыскали по архивам и собирали никому не известных писателей. В Германии это известные, ключевые авторы, просто у них в России не сложилось. Чаще всего мне и правда важно, чтобы ту или иную книгу можно было типографски хорошо сделать. Иллюстрации немаловажную роль играют. Вот издадим сейчас сказочную пьесу Хауптманна «Потонувший колокол», она неявно связана с нашим двухтомником Рильке в Ворпсведе, потому что а) иллюстрации к этой пьесе нарисовал один из художников колонии Ворпсведе Хайнрих Фогелер; б) Рильке и Паула Беккер, когда оказались в Ворпсведе, оба записали в дневниках, что они там себя чувствуют как герои этой пьесы; в) братья Хауптманн часто в Ворпсведе бывали. Связана неявно, но, получается, непосредственно.
Глобальной программы по ознакомлению русского читателя с немецкой литературой у нас нет. Я германист, поэтому именно эти книги могу делать качественно: отследить все процессы, проконтролировать перевод, посмотреть немецкое издание или историю немецких изданий.
А как вы себе аудиторию издательства представляете, для кого делаете книги?
Мне просто хочется этим заниматься, остальное меня мало интересует. Я эти книжки делаю для себя, и, если они продаются, мне приятно. Никакого образа потенциального потребителя или читателя у меня нет и не должно быть. Часто о таком образе читателя заходит речь в случае с переводом: это очень опасный путь, никогда не стоит пытаться представить себе, для кого ты переводишь. Не для читателя, это точно. Книжку вы делаете не для того, чтобы читатель ее купил. Вы должны создать такой дэймон книги, идеальную книгу, найти для этой книги идеальное воплощение, подобрать бумагу, гарнитуру, сделать перевод. После этого она начинает существовать в ноосфере как объект материальной культуры, как образ идеального издания Грифиуса, идеального издания Хауптманна, а реализация тиража тут ни при чем. Всем остальным мне лень заниматься. Можете мне не верить, но говорю вам как есть — мне это скучно. Когда книга выходит из типографии, когда она начинает существовать материально, она меня перестает интересовать, потому что у меня в голове уже пять следующих. Купят ее или нет — не имеет значения, хуже она от этого не станет.
У вас есть канал bookhate в телеграме, вы там периодически пишете довольно резкие отзывы на книжки. В чем пафос ваш? На какую реакцию со стороны литературного сообщества рассчитываете?
Пафос в том, что книжка могла бы быть мне очень интересна, но оказалась совершенно неинтересной. Например, я как-то раз написал о книге про книжные магазины. Мне очень интересно про книжные магазины, а книга оказалась дрянь, и выходит, что меня ******* [обманули — прим. ред.] с ней как бы. А про литературную среду я не размышляю. Более того, я себя к ней не причисляю. Смотрю со стороны, как будто изнутри аквариума. Мне интересно, например, про барокко — читаю сейчас хорошую книгу про Тридцатилетнюю войну, в ней тысяча страниц, надолго хватит.
Канал свой я не воспринимаю всерьез, это просто смешной канал, где я матом пишу про книги. Иногда за это прилетает, но мне все равно, поскольку я, опять же, не из этого мира, мне-то что. Я просто мимо проходил. Все это значимо только в этом мирке, но за его пределами ничего не значит. Я ни с кем не «не дружу». Более того, в канале примерно половина постов про книги, которые я хвалю. И я не боюсь испортить отношения с коллегами, потому что, если коллеги к себе критически относятся — а это залог успеха, — обоснованной критикой отношения не испортишь. Есть, знаете ли, прекрасные переводчики не из тусовки. Вот в Курске есть прекрасный переводчик Света Субботенко, она для нас перевела дневник Цвейга времен Первой мировой, в городе Сарапул есть прекрасный переводчик Катя Ботова, мы вместе с ней и еще группой товарищей переводим «Последние дни человечества» Крауса. Возвращаясь к вопросу об издателях и заказах — кто бы мне заказал такой текст переводить? Или националистическую книжку Хофманнсталя про принца Евгения? Никто. А я ее перевожу для своего издательства. Или вот Конрада Байера совершенно сумасшедший текст «Голова Витуса Беринга». У издателей обычно аллергия на такое.
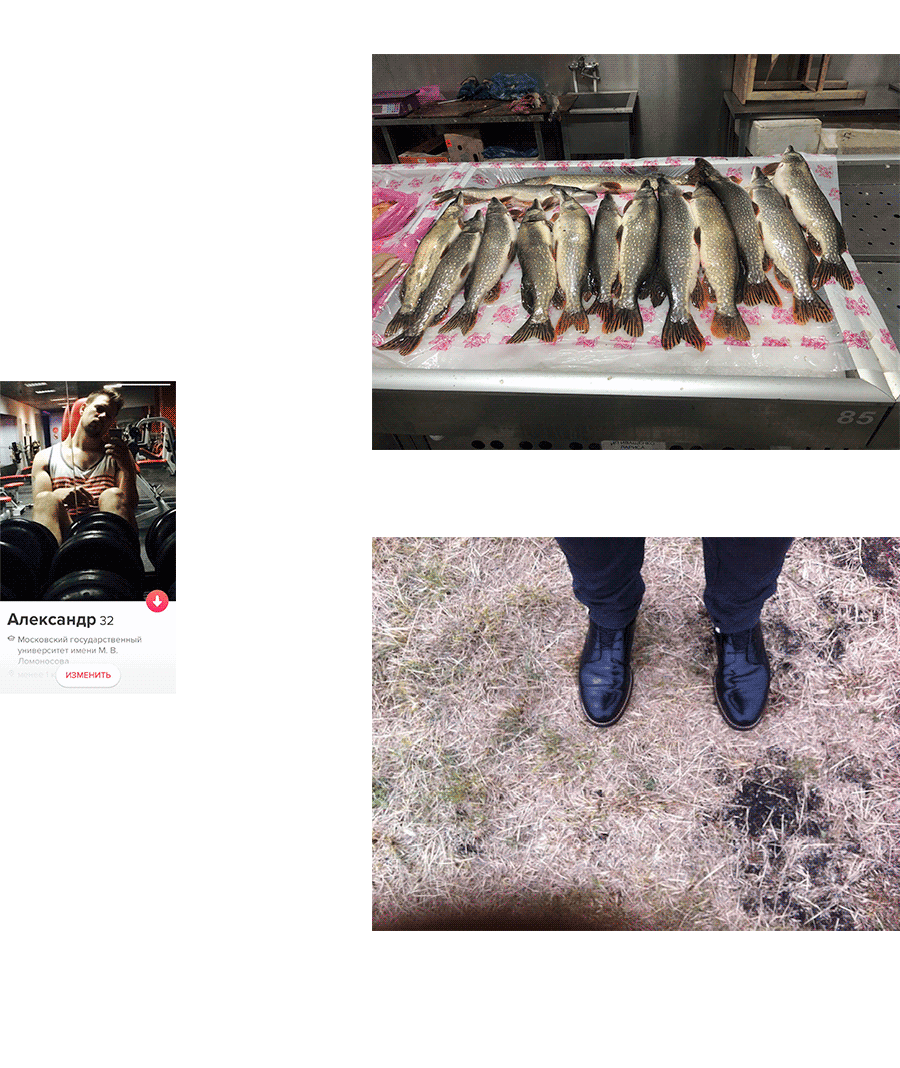
Труды и дни Александра Филиппова-Чехова (коллаж)
Обычно люди развернуто высказываются о книгах, чтобы утвердиться в этой среде, а не наоборот. И все это потом так или иначе на вашей работе или работе издательства отразится.
Ну а мне это неинтересно, вот есть книжка, а моя личность вообще не важна, вообще не должна никого интересовать, я даже от упоминания своей фамилии устал, поэтому я так псевдонимы люблю (подражаю в этом Гриммельсхаузену, кстати) и дальше буду все чаще, видимо, их использовать. Есть телеграм-канал bookhate, а есть книги libra, которые ни к нему, ни ко мне отношения не имеют. Но я понимаю, что многие такого взгляда не разделяют, и их кроет. Это, кстати, очень весело. И очень зря. Это совершенно отдельные вещи. Вот книга, это продукт. Она сама за себя говорит. Уберите из нее мою фамилию, и ничего не изменится. Штука в том, что я этого нашего культурного поля себе не представляю в целом и им не интересуюсь. До меня иногда долетают случайные книги, но я не воспринимаю их как часть какого бы то ни было поля. Если же говорить о немецкой литературе, то ее я себе примерно представляю в общих чертах.
Еще вы, насколько я понимаю, критически относитесь к дискуссии о переводе, которая постоянно возобновляется и привлекает много внимания.
Про перевод я никогда особо напрямую не высказывался, но за переводческой дискуссией слежу, потому что мне это интересно как часть ремесла. Но уровень ее такой, что меня начинает крыть. Обычно все сводится к перечислению банальностей, и при этом чаще всего высказываются люди, которые непосредственно к практике перевода отношения не имеют или имеют опосредованное отношение. А люди, которые реально сидят книжки переводят и которых интересно было бы послушать, не высказываются особо.
Перевод принято обсуждать издревле, эта дискуссия тянется еще с советских времен, когда были другие принципы работы и переводчик мог непосредственно влиять на текст — поэтому вокруг его фигуры возник какой-то ореол. А на самом деле переводчик — инструмент, который выполняет свою функцию, а вовсе не проводник, не голос автора и все такое. Обычно, кстати, новые витки этой дискуссии совпадают с выходом новых переводов известных произведений вроде «Над пропастью во ржи» (заметьте, только англоязычных, я вон сколько немецкой драмы перевел заново, и всем все равно). Таким образом происходит размывание этой темы, и у людей со стороны формируются невнятные и ошибочные, вредные представления об этом ремесле. Меня это крайне раздражает, и, более того, совершенно непонятно, к чему такая дискуссия может привести. Переводчики очень любят жаловаться, что никто не дает им интересных заказов, но в нынешних условиях ничто не мешает им не брать неинтересные заказы, а самим перевести и издать то, что заблагорассудится. Переводчики, кстати, обычно лучше издателей разбираются в том, что надо бы издать, и к тому же могут объединиться. Не должна эта дискуссия сводиться к тому, что издатели-гандоны мало платят. Мне кажется, пришла пора вообще пересмотреть роль переводчика, перестать воспринимать эту профессию как творческую. Перевод книги несильно отличается от изготовления горшка. У вас есть набор скиллов, набор умений плюс некоторый бэкграунд, и вы с этим набором делаете продукт. Творческая профессия — это писатель, а переводчик не творческая. Есть представление, что в нашей работе есть некий элемент свободы, но на самом деле его нет. Я говорю сейчас только о переводе художественной литературы.
Но ведь текст проходит через сознание отдельного человека, который неизбежно добавляет долю субъективности.
Вот этого отдельного человека в переводе не должно быть, его нужно исключить из этого процесса. Это возможно, и это именно так и должно работать. Вспоминаю в этой связи один апокрифический эпизод из жизни Розанова, когда он очень хотел с какой-то великой актрисой познакомиться и ломился за кулисы. Ну и вот, приходит он в гримерку и ******** [поражается — прим. ред.]: «Я увидел пустоту». Понимаете, да? Такая вот пустота, забвение себя, исключение своего я из процесса — вершина мастерства переводчика, для достижения которой существуют различные серьезные практики, помогающие вынуть себя, свое Я из этого процесса. Это вопрос погружения в предмет, в том числе иррационального погружения, мистического. Самое банальное и иногда действенное — посетить места жизни писателя. Гёте, например, всячески рекомендовал такое, или вот Дмитрий Волчек неоднократно рассказывал, как ночевал в поместье Кроули, будь он неладен. Но это соприкосновение с определенными материями, к которому не все готовы.

Но это же в чистом виде творчество?
Это не творчество. Не хочу приводить банальные метафоры, но да, переводчик — это актер (в древнегреческом понимании). Вы просто выбираете нужный инструмент из вашего арсенала, нужный скилл. Переводчик — робот, машина, автомат, как у Хоффманна. Я даже хотел написать манифест под названием Translation Machine, Übersetzungsmaschine. Переводчик выполняет чужие приказы, команды абсолюта. Получается так не всегда, но, если получается, это уже переводческая удача. Если вы полностью погружаетесь в текст и контекст, то растворяетесь в них и пропадаете.
В таком деле легко обмануться.
Есть другие переводчики, которые вновь переведут этот текст, если ваш перевод им покажется неубедительным. Я обычно начинаю читать книгу по-немецки, и, если у меня в голове возникает по-русски этот текст — значит, можно за него браться. Чем дальше, тем это раньше происходит. Если не происходит, то лучше не браться. Но есть и некая прагматика перевода. Я когда с коллегами общаюсь, про другое спрашиваю: в каких местах вы переводите и какое количество страниц в день, какой у вас допинг, что делаете в случае выгорания. Еще интересно, как люди вообще тексты выбирают. Те тексты, которые не на заказ, а для души. У меня был такой случай, я никому не рассказывал, боялся, что не сбудется, но вам расскажу. В Венгрии, в Будапеште, есть памятник Анонимусу, хронисту XIII века. Никто не знает про него ничего. Но если вы посмотрите на этот памятник, вы поймете, что это тот же самый серый человек, памятник которому установлен в Зальцбурге и Праге, это он заказал Моцарту реквием. А кто такой серый человек? Про это написано у Шамиссо в «Удивительной истории Петера Шлемиля», например. Мы про него издали роман Шарля Фердинана Рамю очень забавный, в переводе Алексея Воинова, моего друга. По легенде этот Анонимус выполняет всякие гуманитарные желания. Я в какой-то момент думал переводить роман Хауффа «Мемуары сатаны». Но как его переводить? Это все очень серьезные материи. И я пришел к выводу, что надо пообщаться с товарищем, про которого этот роман написан. Я пришел к Анонимусу, загадал определенное желание, и он его исполнил очень быстро, в тот же вечер, и я испугался. Мне двадцать четыре года было, а Хауфф как раз в двадцать четыре написал этот роман и умер. И я в итоге эту работу отложил. То есть выбор — штука очень серьезная. Я за мистический опыт, но, даже если он есть, это все равно только первый этап, а дальше нужно забыть про эго и работать. Это же чистый Фауст, чисто немецкая тема: загадываете желание и наслаждаетесь. Правда, цена высока. Кстати, сцену шабаша Гёте ведь тоже у Гриммельсхаузена позаимствовал, а через Гёте и Брюсов в «Огненном ангеле». Теперь стало понятно, почему продажи не важны?