«Про то, как умирает Иван Ильич, все уже написано»
Беседа с писателем Анатолием Гавриловым
— Как формировался ваш круг чтения?
— Я умел читать до школы, но не помню, кто меня научил. Я читал сказки в основном до класса четвертого, потом пошла приключенческая литература, а в девятом классе уже начал читать более серьезную литературу, но без Толстого и Тургенева. Я увлекался философской и политической литературой. Помню, как библиотекарь на меня с удивлением посмотрела и спросила: «Ну, и зачем вам этот Фейербах?». Мне было лет 14, и я мало что понимал, но мне было лестно, что я это читаю. Потом появились оттепельные авторы — например, Василий Аксенов.
— Вы жили в Мариуполе?
— Да, я там жил до 1984 года, мне тогда было около 40 лет. В книжных почти ничего не было. Был Хемингуэй на украинском языке. Из школы у пары человек была оттепельная литература. Например, у моего друга Николая Парахавника, который закончил Литинститут, сейчас живет в Москве и издает свои книги. У него вышло две-три книжки, а потом он ушел в документальное кино.
До восьмого класса я учился в обычной школе, а потом в интернате, и Николай там был моим наставником. Интернат был закрытый, зимой можно было вообще не выходить на улицу, мы с Николаем брали темы и после уроков что-то писали. Меня тогда больше тянуло писать, чем ходить в спортзал. Потом была армия, где я познакомился с будущим композитором Сергеем Белинским, который работал библиотекарем. Он стал направлять меня в чтении. Как-то я полез брать «Капитал» Маркса, а он мне предложил взять еще художественную литературу и дал недавно вышедший «Алмазный мой венец» Катаева и что-то из Бабеля. Я был в восторге от Катаева.
У нас в клубе был рояль, и мне приходилось слушать сочинения Белинского. После прослушивания он заставлял рефлексировать на эту тему, рассказывать о том, что я почувствовал. Однажды он заметил, что я что-то пишу и попросил почитать. Николай меня третировал тем, что я пишу слишком скупо, а Сергей просто говорил, какие ему места не нравятся.
После армии, в 1968 году, я вернулся домой в Новоселовку (под Мариуполем) и был в страшном унынии, потому что чувствовал, что вырос из этого дома и огорода.
— Вы продолжали дружить с вашими товарищами?
— Николай позже демобилизовался, а Сергей уехал в Москву поступать и там женился. Я с ними переписывался. Потом мы втроем встретились в Москве, они страшно не понравились друг другу, я даже жалел, что их познакомил. Оба говорили мне, что мне надо уезжать. Решили, что надо поступать в Литературный институт, но у меня были отдельные листочки какие-то, машинки не было, а тут еще этот огород и куры. Тогда было жаркое лето, все надоело, литературы нет, и я уехал в Якутию, в поселок Нерюнгри. Там я немного поработал и уехал назад, потому что там было холодно и общежитие. В конце концов я поступил в Литературный заочно.
— Где вы работали тогда?
— Первое место моей работы сразу после школы было на заводе «Тяжмаш», модельный цех. Оттуда уволили из-за прогулов, потому что не шла у меня работа по начертанию чертежей. В школе с геометрией были проблемы. В итоге из-за ошибок в чертежах у меня возник страх, из-за которого я не мог работать: ехал на работу к первой смене, доезжал до какой-то остановки и пересаживался в другой трамвай, который ехал на пляж, и там сидел целый день. А после армии я работал в горгазе.
— С кем вы общались в Мариуполе?
— Я пытался влиться в литературное объединение, которое называлось «Звоны Азовья». Об этом я сказал Сергею, на что он сказал, что знает эти «Звоны мудозвонов». Я несколько раз пошел туда и прочитал свои опусы, но на меня там посмотрели как на идиота. Там все было по линии партии — надо было описывать образ рабочего человека. У нас и в местном театре шли спектакли о сталеварах и так далее. А я уже знал другую литературу. В какой-то момент у меня оборвалось общение, потому что друзья разъехались. Примерно в это время я женился.
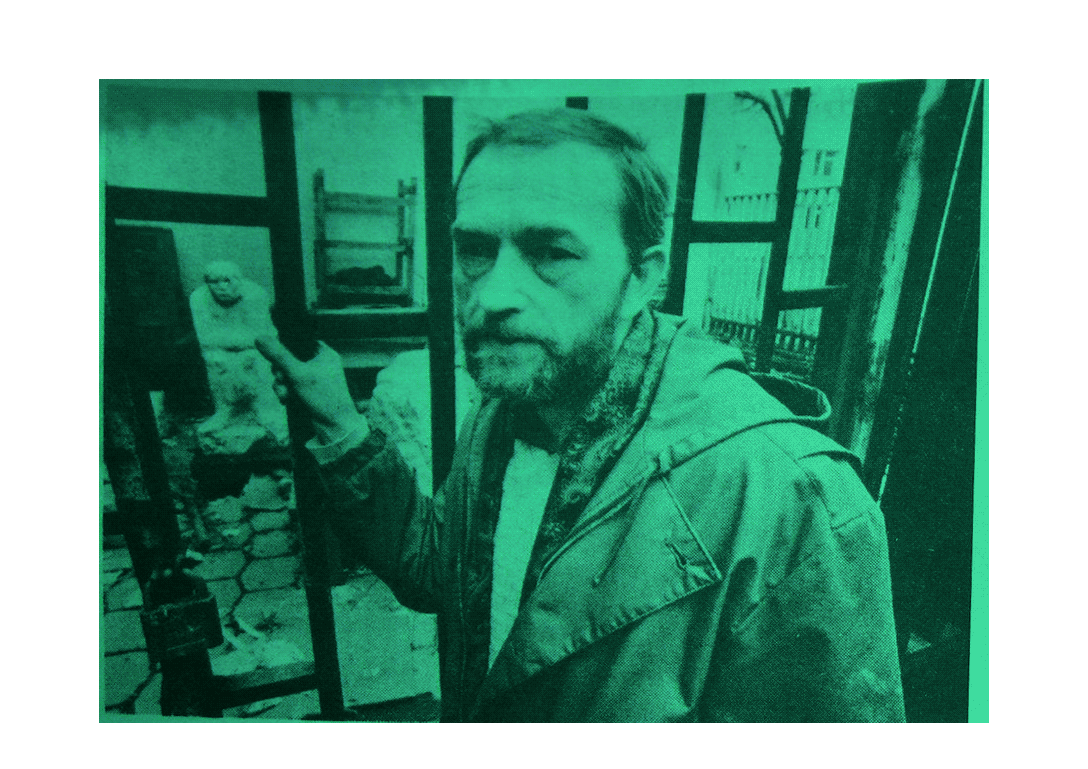 — А что вы читали в то время, кроме Катаева?
— А что вы читали в то время, кроме Катаева?
— В армии я узнал Платонова. В городской библиотеке что-то брал в читальном зале — например, Паустовского. Мой друг Николай был влюблен в Паустовского. Я приходил к нему, когда он еще жил в Мариуполе, он открывал Паустовского и показывал на его примере, как надо красиво писать. А у меня не очень получалось держать лирическую линию. Он говорил: «Вот посмотри, как ты пишешь! Ловишь негатив. А человек с непростой судьбой пишет красиво».
Потом была Москва, Литинститут. Мне повезло, что наш творческий руководитель Николай Борисович Томашевский был человеком с западными взглядами: он никого не осаживал, у нас семинары проходили не по 5-6 часов, как у остальных, а в вольной форме и недолго. Мой друг Николай был на семинаре Субботина, который был чрезвычайно строгий, поэтому я решил остаться у Томашевского. Были семинары у Трифонова. Так и прошли шесть лет учебы, я получил диплом.
— Вы обрели новых учителей или соратников?
— У всех нас была трудовая биография, просто установка была брать таких. Тут ничего не поделаешь. Была пара человек — например, Эрих Русаков из Красноярска. Он был уже состоявшимся врачом-психиатром, ему и учиться не надо было. У него были замечательные рассказы. Он меня познакомил с Евгением Поповым, которого не взяли в Литинститут. С моим другом Николаем, который учился у Субботина, мы в какой-то момент эстетически разошлись: я не мог укладываться в его требования писать длинными предложениями, развернуто. Я всегда был минималистом — еще в школе, когда писал на уроках литературы сочинения, состоящие из коротких предложений.
— Ваш первый сборник — «Старуха и дурачок» или есть более ранние?
— Да, но до этого были публикации в журналах.
— С местной писательской организацией отношения не сложились?
— Мне было неинтересно то, чем они там занимаются, неприятно, что на собраниях публично говорили одно, а в коридорах — другое. Я пытался устроиться в газету, где у меня спросили, кем я работаю. Я ответил, что на железной дороге сцепщиком, и мне сразу дали задание описать трудового человека в очерке. Я не справился с этим заданием, просто не смог. Продолжил какое-то время работать на дороге, потом ушел на завод Ильича. Мне Сергей Белинский говорил тогда: «Не идет сейчас. Ты же видишь. Но ты пиши, наступит время, спросят, а у тебя ничего нет. Есть свободное время, есть ориентиры — пиши». Я так и делал. Потом переехал во Владимир, где та же история с газетой повторилась. Я тогда работал на химзаводе.
Потом мы более близко познакомились с Володей Краковским, он дал мне рекомендацию в Союз писателей. Помню, когда зачитывали рекомендации в зале, где проводили собрания союза, кто-то возмутился, что моя рекомендация слишком громкая, а можно было бы взять ее у своих. Кроме Краковского, меня рекомендовал Битов.
И мне сказали: «А что по поводу Семенько, офицера советского, который по должности был начальником штаба армии ракетных войск (это реальный человек, который был моим комбатом), то как это может майор ракетных войск рыться в туалете в поисках пропавшей секретной бумаги? Не знаем, как в Москве отнесутся к твоей кандидатуре, мы-то пошлем. Но надо менять стиль, так нельзя». Я не прошел в итоге. Меня приняли, уже когда образовалось два Союза, хотя корочку я получил члена Союза писателей СССР.
В «Юности» опубликовали мой рассказ «В преддверии новой жизни», меня заметили и из Германии прислали деньги, чтобы опубликовать перевод. Это было в 2000-х. Этот рассказ в «Юности» мне искорежили, он был более резкий.
— Когда вы переехали во Владимир, стали ли ощущать себя настоящим писателем?
— Я, когда приехал, ни с кем не общался, занимался поиском работы и домашними делами. Обстановка здесь была другая, были молодые писатели, сама атмосфера другой была. Я был знаком с Сорокиным, когда он начинал. Мне больше нравятся его сборники после «Субботника». А познакомились мы на вечере Виктора Ерофеева, куда меня пригласил Женя Попов. Там было много известных людей, Пригов пришел, все выпивали, а я отмалчивался и вскоре ушел. Потом мы с Сорокиным пересекались в Берлине.
 — Сам литературный процесс вас когда-нибудь интересовал?
— Сам литературный процесс вас когда-нибудь интересовал?
— Я иногда просматриваю новости в Сети, но, чтобы погрузиться, надо открывать какой-то блог и вникать. На самом деле все основное уже произошло: Джойс был — Джойса не стало. Все остальное — повторы и горожение не пойми чего. Смотришь на это все — раздражает.
— Кто из последних прочитанных авторов вам запомнился?
— Чехов, Платонов, «Войну и мир» Толстого я довольно поздно прочел с удовольствием, Гоголь. Я даже пьесу написал, которая была напечатана в журнале, она даже была поставлена в Йошкар-Оле. Я еще написал пьесу «Икота» про Венедикта Ерофеева, он тут жил, но мы не встречались.
— Когда вы прочли «Москва — Петушки»?
— Я уже здесь был, и, опять же, Женя Попов меня пригласил к скульптору Сверчкову. Скульптор отсидел несколько лет лагерей только за то, что он на защиту диплома в Литературном институте принес свои скульптуры и предложил рассматривать свои тексты только в связке с ними. Когда он вернулся из лагеря, ему вернули мастерскую на Петровке. Так вот, у него в мастерской Женя мне дал журнал, где впервые была напечатана «Москва — Петушки». Они ушли куда-то, а я остался читать этот журнал. Я бы не сказал, что я был потрясен. Да, это смело было по тем временам, но сейчас кого этим удивишь?
Позже один из наших общих с Женей владимирских друзей мне предложил написать биографию Ерофеева. Я написал «Икоту», которую поставили во Владимире, Москве и где-то в Германии. Здесь Станислав Шавловский поставил, он был сценографом и вел курс в колледже культуры. Он набрал своих студентов и поставил пьесу.
— После того, как вы стали мэтром в узких кругах, у вас были ученики?
— Кто-то был.
 — Минималистов мало вообще. Когда вы поняли, что вы минималист?
— Минималистов мало вообще. Когда вы поняли, что вы минималист?
— Кто-то меня так назвал. Как я стал позже понимать, минимализм — это не просто сжатое движение чего-то. Минимализм в музыке — это спиральное движение какого-то одного постоянно обогащающегося звука. Это не все понимают. Я надеюсь, что и в прозе так же. У меня был рассказ «Музыка».
— У вас семья рабочих была?
— Жена закончила техникум и работала контролером ОТК в лаборатории. Мама рано умерла. Они познакомились с отцом в Германии на работах — наверное, были угнаны туда. Точно не знаю, потому что кто-то и сам уезжал — людям рассказывали о прелестях немецкой жизни. Родители не жаловались, работали на земле, получали завтрак, обед, ужин, было свободное время. Дед попал в плен в Германии в 1914 году, когда ходил в разведку, а вернулся домой уже в 1920 году. Вот так: дед, потом родители, а потом и я оказался в Германии — но уже в роли сочинителя. Дед и бабушка были крестьянами. Бабушкин отец арендовал землю и выращивал там пшеницу очень хорошего качества, которую везли потом за рубеж. Отец после возвращения завел новую семью и работал фрезеровщикам, а я жил с дедом, бабушкой и дядей. Дед умел читать, бабушка не умела. Дед научился по-русски читать в плену и немного немецкому. Во время войны, в 1943 году, у них были постояльцами два немецких офицера. Как-то один из офицеров сказал деду, что они отступают и будут взрывать Мариуполь, тогда дед с бабушкой собрали вещи и жили за городом неделю.
— Возвращались ли вы к советской литературе?
— Шукшин разве плохой автор? А жил в советское время. Аксенов сначала хорошо шел.
— Вы живете отшельником, литературным процессом не интересуетесь, вы путешествуете?
— Несколько раз меня дочь и сын возили в Абхазию и Евпаторию, но дня через три-четыре море надоедает.
Иногда не идет рассказ, а если писать в столбик, то идет. Вот, например: «Говорят, что нет красоты, но как же нету, купите шмайссер, шнапсу, в Большой театр пойдите. И, восхищенные огромной красотой, вернетесь вы домой и шнапсу выпьете, забыв про шмайссер».
— Вы человек модерна?
— Да. Мне главное, чтобы то, что я пишу, состоялось как большое музыкальное сочинение. Когда я чувствую, что фраза лепится слово к слову, а потом возвращается, как в джазе, в котором есть ритм и повторы, тогда я понимаю, что получается вещь. А про то, как умирает какой-нибудь Иван Ильич, все уже написано.
Что читать:
Проза Анатолия Гаврилова в «Журнальном зале»