«Прекрасное — это и есть наша жизнь»
Евгений Добренко — о соцреалистической литературной критике
Литература соцреализма была монструозным и нежизнеспособным ребенком сталинской эпохи, и в неменьшей степени это относится к литкритике тех лет. В рамках
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Проводники власти
Важно помнить, что критика — это не просто оценка и анализ произведений, но и целая социально-культурная институция, которая превратилась в важнейший элемент становящейся в России XIX века «публичной сферы». В силу высокого статуса литературы критика оказалась сферой формирования открытого дискурса и чуть ли не единственной сферой политической активности. Отсюда знаменитый литературоцентризм русской культуры. Вообще, вся современная европейская литературная критика родилась в борьбе с абсолютистским государством. Как институт она была тесно связана с основными тенденциями нового времени: культурной демократизацией, политической либерализацией и социальной секуляризацией, служила одновременно их продуктом и инструментом, а кроме того, артикулировала идеологические и эстетические позиции в литературе. Именно в этом направлении развивалась русская критика до революции.
XX век стал эпохой массового общества и революционной культуры. А революционная культура любого типа — это всегда культура преодоления изоляции, которой предшествовала революция. Она втягивает в себя новые реальности, производит новых субъектов, новых граждан, новое общество. В результате понятие «культура» проходит полный спектр превращений: сопротивление режиму — автономность — инструментализация. Культура важна для правящей верхушки, поскольку является универсальным политическим орудием, способом формирования образа власти и ее легитимации, объектом централизованного управления и планирования. Из рук спонсоров и частных элит культура переходит под контроль государства; из дворцов, театров и салонов она перемещается на площади, в школы, библиотеки, государственные институции и СМИ.
Таким образом, функции и природа литературной критики как продукта европейского просвещения на Западе и в СССР оказались совершенно различными. Даже учитывая процесс эрозии классической буржуазной публичной сферы в Европе и его влияние на институт критики в XX веке, литературная критика, которая возникла в эпоху Просвещения, не имела ничего общего с социальной ситуацией в СССР. Последняя не предполагала публичной сферы, поскольку была основана на политической культуре, которая питала социальную атомизацию, и на политическом режиме, который подавлял любые анклавы автономности.
В европейской традиции критика выполняла множество функций — эстетическую, экономическую, политическую и так далее, — но неизменно сохраняла связь с публичной сферой, развивалась внутри нее и фактически являлась ее функцией. Советская критика была основана на совершенно иных, новых политико-эстетических основаниях и выполняла совершенно иные функции. Специфика советской ситуации состояла в особом статусе политики. С одной стороны, политика была сконцентрирована на вершине власти, что фактически обесточило все социальные поля. С другой стороны, именно в силу этой концентрации она начала искать новые пути для реализации, проявлять себя там, где прежде ее роль была незначительной. Все сферы, от искусства до экономики, оказались политизированными и деполитизированными одновременно. Из источника власти они превратились в ее проводника.
Критика также стала одним из политических инструментов. Многие литературно-критические акции советского периода — будь то разгром пролеткульта в 1920 году, знаменитая резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» 1925 года, подъем РАППа, перестройка литературно-художественных организаций в 1932 году, создание Союза писателей, знаменитые идеологические постановления 1946 года и кампании послесталинской эпохи — были лишь формой борьбы на вершине власти. И каждый раз, участвуя в процессе производства и распространения политических представлений, которые обладали мобилизующей силой и давали жизнь правящим элитам, критика играла важную роль в актуальной политической борьбе — единственном поле, где политика могла реально присутствовать. Эта политическая инструментализация литературной критики наряду с литературоцентризмом — характерная черта не только сталинской, но и советской культуры в целом.
Большевики есть, а критики нет
В советской литературе 1920-х годов существовало множество направлений и групп, каждая из которых имела свою критику и своих критиков: футуристы, ЛЕФ, «Серапионовы братья», «Перевал», конструктивисты и так далее. Но именно РАПП впервые превратил критику в основной инструмент литературной политики. Он показал, что даже при отсутствии сколько-нибудь значимых литературных достижений можно жестко и эффективно проводить партийную линию и добиться гегемонии одними только кампаниями травли неугодных писателей; что через постоянный критический террор можно полностью разложить и контролировать писательскую среду; что, вбрасывая в топку очередной кампании новые лозунги, можно переформатировать всю структуру литературного процесса.
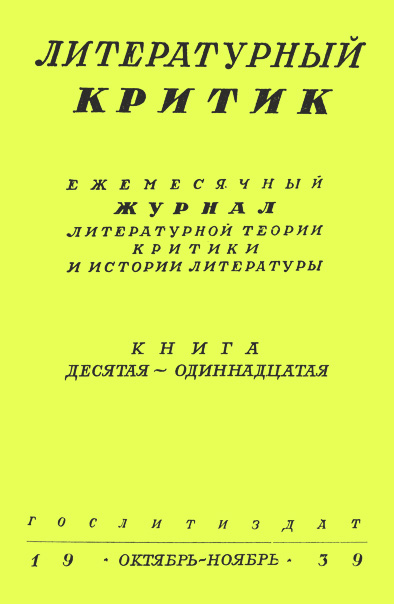 В 1932 году система литературного процесса была перестроена. Фактически она осталась в руках прежних деятелей, зараженных групповщиной, вождизмом и непомерными политическими амбициями. В первую очередь это были рапповцы, которые составляли костяк советской критики и долгое время отказывались мириться с утратой власти, данной им на рубеже 1920–1930х годов. Поэтому трансформация литературно-художественных организаций была проведена Сталиным таким образом, что все критики оказались сконцентрированы в одном журнале. Этим журналом стал «Литературный критик», созданный сразу после разгона РАППа. Костяк издания составляли философы: Марк Розенталь, Михаил Лифшиц, Дьёрдь Лукач. Из критиков наиболее влиятельной фигурой была Елена Усиевич. Именно эта группа возглавила борьбу с «вульгарным социологизмом», а по сути — с остатками рапповства. Неудивительно, что «Литературный критик» через несколько лет закрылся из-за нападок на него ведущих идеологов РАППа Владимира Ермилова и Александра Фадеева.
В 1932 году система литературного процесса была перестроена. Фактически она осталась в руках прежних деятелей, зараженных групповщиной, вождизмом и непомерными политическими амбициями. В первую очередь это были рапповцы, которые составляли костяк советской критики и долгое время отказывались мириться с утратой власти, данной им на рубеже 1920–1930х годов. Поэтому трансформация литературно-художественных организаций была проведена Сталиным таким образом, что все критики оказались сконцентрированы в одном журнале. Этим журналом стал «Литературный критик», созданный сразу после разгона РАППа. Костяк издания составляли философы: Марк Розенталь, Михаил Лифшиц, Дьёрдь Лукач. Из критиков наиболее влиятельной фигурой была Елена Усиевич. Именно эта группа возглавила борьбу с «вульгарным социологизмом», а по сути — с остатками рапповства. Неудивительно, что «Литературный критик» через несколько лет закрылся из-за нападок на него ведущих идеологов РАППа Владимира Ермилова и Александра Фадеева.
В ходе дискуссии о художественной критике, которая состоялась в Институте философии Коммунистической академии, Елена Усиевич выступила против «вульгарных социологов» — прежде всего рапповцев, которые в 1920-е годы отстаивали принципы «плехановской ортодоксии». По мнению Усиевич, их критика являлась социологической карикатурой на марксизм. Прения по докладу вылились в спор «социологистов» (Валерьян Переверзев, Нусинов, Ульрих Фохт) и рапповцев (Владимир Ермилов) о «политической нагрузке» современной критики и политических задачах, которые решала критика во времена Чернышевского и Добролюбова. Из стенограммы:
Усиевич:
Критика, исходящая из марксистско-ленинского анализа, не может быть вульгарной, и она не может не быть страстной и темпераментной, потому что настоящий марксист не затхлый кабинетный ученый.
Переверзев:
Так что же все-таки делать критику?
Усиевич:
Что делать? Прежде всего — быть большевиком.
Переверзев:
Большевики есть, а критики нет.
Реплика Переверзева — это парафраз Белинского, который говорил, что у нас есть писатели, но нет литературы. Со сталинской критикой все было ровно наоборот: она существовала как институт, но ярких критиков не было. Когда мы говорим о русской критике XIX века, мы называем представителей разных направлений: Белинского, Страхова, Григорьева, Чернышевского и так далее. В сталинскую эпоху приходится говорить только о разных кампаниях, а не о каких-то отдельных личностях.
В 1934 году был создан Союз писателей. После первого съезда руководитель оргкомитета ССП Иван Гронский (к слову, впоследствии репрессированный) обозначил невероятную задачу, которую предстояло решить советским критикам:
«Изумительные по своей сжатости и ясности алгебраические формулы И. В. Сталина наши критики и писатели должны перевести на язык арифметики» (Гронский И. Съезд мастеров литературы. «Новый мир» № 8, 1934).
Отныне критика требовала однозначных и безошибочных суждений и оценок. Очень хорошо об этом сказал Владимир Киршон, который ранее был одним из ведущих рапповцев (а позже повторил судьбу Гронского):
«Писатель — инженер человеческих душ. Но кто же тогда критик? Я думаю, что критик тоже инженер человеческих душ. Есть, однако, разница между ними. Если писатель — инженер-строитель, инженер-конструктор, то критик — инженер-консультант, инженер-приемщик, оценивающий продукцию» (Киршон В. Счет критике. «Театр и драматургия» № 4, 1935).
Отсюда, как говорил Киршон, вытекал вопрос об «ответственности наших критиков» в оценке произведений и требование избавления от «необоснованных отзывов вкусовщины». Следовало найти «какие-то организационные формы, которые позволяли бы уничтожить вредный разнобой» в оценках. Поиск этих «организационных форм» привел к созданию системы, в которой критика окончательно утратила функцию регулятора литературного процесса, сам критик лишился права самостоятельной оценки, а литературные периодические издания перестали отличаться друг от друга. В № 8 журнала за 1936 год вышла статья критика Исая Лежнева, который по-своему переиначил слова Белинского о том, что каждый журнал должен «иметь известное направление»:
«Если можно говорить об „известном направлении, известном взгляде на вещи“, то только в том смысле, что они в журнале в большинстве случаев не противоречат взглядам партии» (Лежнев И. О журнале всерьез. «Большевистская печать» № 8, 1936).
Рождение канона
Одно из явлений, существенно повлиявших на советскую литературу 1930-х годов, — это утверждение нормативной эстетики. Само понятие нормативной эстетики всегда наделялось отрицательным значением, поскольку связывалось главным образом с эстетикой классицизма, которую отвергал социалистический реализм. Однако в сталинскую эпоху речь шла как раз о насаждении нормативной эстетики. Довольно интересное обсуждение этой темы шло на страницах «Литературного критика». Одни говорили, что соцреализм — это живой метод, открытое, новаторское направление в искусстве. Другие, напротив, вынуждены были признать его нормативный характер. Действительно, соцреализм требовал от авторов четкого следования определенным постулатам, среди которых были партийность, типичность, революционная романтика. Сам собой здесь напрашивается знаменитый «утиный тест»: «Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка». Такой же «уткой» (а точнее, нормативной эстетикой) являлся и социалистический реализм.
Не менее важную роль в установлении нового канона сыграли две другие дискуссии, развернувшиеся в 1933 году: одна — о языке художественной литературы, другая — о Дос Пассосе и Джойсе. Результатом первой, которая проходила на страницах журнала «Литературная учеба» и задействовала таких знаменитых авторов, как Горький и Серафимович, стало утверждение «нейтрального стиля» (термин, позже предложенный Галиной Белой). «Нейтрализовать» следовало натуралистическую манеру письма, то есть вместо диалектизмов и ненормированной лексики использовать чистый и строгий язык. Как мы знаем, литература 1920-х — Зощенко, Бабель, Платонов — во многом основывалась на сказе и, конечно, совсем не походила на ту, что утвердилась в 1930-е годы. Итогом дискуссии о Дос Пассосе и Джойсе стало неприятие модернизма, то есть отказ от свойственных авангарду эстетики монтажа и свободного построения произведения в пользу традиционной композиции и конвенционального сюжета.
Еще одна крупная дискуссия проходила в журнале «Литературный критик». Спор о методе и мировоззрении, который продолжался на протяжении практически всего существования издания, известен прежде всего тем, что его участники ввели в оборот слова «вопрекист» и «благодарист». С одной стороны, утверждался знаменитый «бальзаковский парадокс» — способность художника отражать действительность вопреки своему мировоззрению. Доказательством в данном случае служили произведения писателей-реалистов XIX века (вспомните хотя бы статью Ленина о Толстом) и творчество «попутчиков». С другой стороны, говорилось, что советский писатель пишет «правильно» благодаря тому, что следует «правильной» идеологии. Конечно, вторая точка зрения сводилась к утверждению вышеупомянутой нормативной эстетики.
Большое значение для литературного процесса 1930-х годов имел доклад Горького на Первом съезде советских писателей в августе 1934 года. Он много говорил о социалистическом реализме и, в частности, о том, что литература как таковая родилась из устного творчества (слово «фольклор» в то время практически не использовалось). Фактически речь шла о возвращении к мифотворчеству, мифологизации действительности, что, конечно, совпадало с установками социалистического реализма, требовавшего «правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии».
 И последнее важное литературное событие довоенного периода — кампания 1936 года против натурализма и формализма. Она проводилась уже не в форме дискуссии, а представляла собой волну партийной критики и затрагивала все сферы искусства. В газете «Правда» начали одна за другой появляться статьи: «Сумбур вместо музыки» , «Балетная фальшь», «Какофония в архитектуре», «О художниках-пачкунах». Именно в это время стало ясно, что настоящим источником критики теперь являются партийные институции, а место главного критика страны занял сам Сталин.
И последнее важное литературное событие довоенного периода — кампания 1936 года против натурализма и формализма. Она проводилась уже не в форме дискуссии, а представляла собой волну партийной критики и затрагивала все сферы искусства. В газете «Правда» начали одна за другой появляться статьи: «Сумбур вместо музыки» , «Балетная фальшь», «Какофония в архитектуре», «О художниках-пачкунах». Именно в это время стало ясно, что настоящим источником критики теперь являются партийные институции, а место главного критика страны занял сам Сталин.
Лакированная красота
Во время войны задачи литературы резко изменились. Критика, утвердившаяся в 1930-е годы, оказалась не готова к смене функций и оптики, так что ее участие в литературном процессе первых военных лет практически неощутимо. Разумеется, в какой-то степени это было связано с литературным бытом начала войны и военного периода в целом. В то же время начался институциональный кризис, вызванный постановлением ЦК ВКП(б) «О литературной критике и библиографии». Этим постановлением по доносу Ермилова и Фадеева был закрыт журнал «Литературный критик». Соответственно, вся критика, которая сгруппировалась вокруг этого издания, была передана толстым журналам, в которых она просто не успела привиться. Передовая статья номера газеты «Литература и искусство» констатировала:
«...зрелище, какое представляет критика в наших журналах, не может радовать. <...> территория, занимаемая критикой, крайне незначительна, это какие-то задворки журналов. <...> Крайняя степень нетребовательности, довольства тем, что есть в литературе, делает публикуемые статьи и рецензии однообразными и бесплодными» («Литература и искусство», 24 апреля 1943).
18 апреля 1946 года секретарь ЦК и организатор всех идеологических кампаний А. А. Жданов выступил с речью на совещании в Агитпропе ЦК по вопросам пропаганды. Фактически это была программа того, как Сталин представлял себе функцию критики. Из стенограммы:
«Товарищ Сталин поставил вопрос о художественной литературе, о состоянии таких участков, как кино, театры, искусство, художественная литература. Товарищ Сталин поставил вопрос о том, что эту критику мы должны организовать отсюда — из Управления пропаганды, т. е. Управление пропаганды и должно стать ведущим органом, который должен поставить дело литературной критики. Поэтому тов. Сталин поставил вопрос о том, чтобы создавать такого рода газету и создать кадры критиков вокруг Управления пропаганды и в составе Управления пропаганды, ибо тов. Сталин говорил о том, что нам нужна объективная, независимая от писателя, критика, т. е. критика, которую может организовать только Управление пропаганды, объективная критика, невзирая на лица, не пристрастная, поскольку тов. Сталин прямо говорил, что наша теперешняя критика является пристрастной. <...> Надо, чтобы ведомственная критика (я имею в виду „Литературную газету“) и орган Союза <писателей> имели образец беспристрастной критики, и такой образец мы должны им дать. Процесс активного вмешательства в творчество в первую очередь связан с вопросом критики <...> Но вы, конечно, представляете, что вопрос о том, чтобы дать беспристрастную критику и дать настоящий разбор того или иного литературного произведения, требует наличия в Управлении пропаганды и агитации лиц, которых, не стыдясь, можно было бы выпустить на арену, потому что совершенно очевидно, что к их голосу будут прислушиваться и они будут властителями дум наших литераторов, они будут иметь очень большой вес на нашей литературной арене. Поэтому мы должны оснаститься лучшими людьми, которые могут обеспечить критические обзоры».
С критическими статьями начали выступать сотрудники Агитпропа, а сам Агитпроп стал выпускать газету «Культура и жизнь», где давались примеры «беспристрастной» критики. Разгромные установочные статьи воспринимались как прямые директивы ЦК партии, что действительно делало газету «властителем дум наших литераторов». В кулуарах газету «Культура и жизнь» иронично называли «Культура или жизнь».
Это издание сыграло важную роль в проведении многочисленных идеологических кампаний послевоенного времени. Прежде всего здесь следует вспомнить серию знаменитых ждановских постановлений, которые, по сути, формировали новую эстетику послевоенного периода. Самое известное из них — постановление «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», которое привело к исключению Зощенко и Ахматовой из Союза писателей. Утверждалось то, что позже стали называть «лакировкой» — изображением не того, что есть, а того, что должно быть. Самовыражение, лирическое начало уступили место патриотическому официозу.
 Ведущим критиком послевоенных лет стал Владимир Ермилов, на тот момент главный редактор «Литературной газеты». В это время развернулась большая дискуссия о социалистическом реализме и революционном романтизме, в ходе которой говорилось, что писатель должен романтизировать советскую действительность. В ответ Ермилов выступил с целой серией разгромных статей, где утверждал новую эстетику. Он заявлял, что нельзя подтягивать реальность к прекрасному. В романтизме всегда есть трагический разрыв между идеалом, мечтой и реальностью, а в советской жизни такого разрыва быть не может, ведь она прекрасна сама по себе. Ермилов сформулировал девиз «лакировочной» советской литературы сталинской эпохи: мысль Чернышевского о том, что «прекрасное есть жизнь», он трансформировал в лозунг «Прекрасное — это и есть наша жизнь».
Ведущим критиком послевоенных лет стал Владимир Ермилов, на тот момент главный редактор «Литературной газеты». В это время развернулась большая дискуссия о социалистическом реализме и революционном романтизме, в ходе которой говорилось, что писатель должен романтизировать советскую действительность. В ответ Ермилов выступил с целой серией разгромных статей, где утверждал новую эстетику. Он заявлял, что нельзя подтягивать реальность к прекрасному. В романтизме всегда есть трагический разрыв между идеалом, мечтой и реальностью, а в советской жизни такого разрыва быть не может, ведь она прекрасна сама по себе. Ермилов сформулировал девиз «лакировочной» советской литературы сталинской эпохи: мысль Чернышевского о том, что «прекрасное есть жизнь», он трансформировал в лозунг «Прекрасное — это и есть наша жизнь».
Литераторы в штатском
Многие считают социалистический реализм мертвой доктриной, однако на самом деле «умер» он несколько позже. В сталинское время соцреализм являлся мощной операционной категорией, настоящей дубиной, с помощью которой можно было контролировать литературный процесс, направляя его в нужное русло. Он стал репрессивным инструментом именно благодаря своей невнятности, гибкости и противоречивости. И когда в обойму вставлялся нужный идеологический патрон, это оружие стреляло на убой. Так, разразившаяся в конце 1940-х борьба с «низкопоклонством перед Западом» вылилась в борьбу с «безродными космополитами». Безусловно, эта кампания имела выраженный антисемитский характер, однако не исчерпывалась им. Поводом к ее началу послужили отзывы критиков из Всероссийского театрального сообщества, которые отказывались прославлять драматические поделки Анатолия Софронова, Анатолия Сурова и прочих именитых советских авторов.
С одной стороны, ждановщина и борьба с космополитизмом практически парализовали критику. С другой стороны, она была поставлена впереди, вне и над литературой, обрела статус инстанции, которая определяла литературные задачи. По сути, критика превратилась в партийно-политическую работу, а критик — в политработника, «литератора в штатском». Писательская армия «инженеров человеческих душ» получила корпус «комиссаров» литературы. В 1947 году в журнале «Октябрь» вышла статья Александра Фадеева «Задачи литературной критики», которая предваряла дискуссию, посвященную первой годовщине постановления «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Фадеев писал:
«Мы должны стремиться к созданию нового типа критиков, критиков ленинского типа <...> умеющих быть хозяевами литературного процесса и направлять его <...> Наша критика должна играть руководящую идейную роль в литературе» («Октябрь» № 7, 1947).
Фадееву вторил генеральный секретарь Союза писателей и один из типичных «литераторов в штатском» Виталий Озеров:
«Пусть поскорее предстанут они <критики> перед читателем... как хозяева литературного процесса, умело направляющие советскую литературу по пути социалистического реализма!» (Озеров В. О социалистическом реализме. «Октябрь» № 9, 1947).
Определение критика как «хозяина литературного процесса» чередовалось с понятием «садовник». В 1948 году «Литературная газета» писала:
«Подобно мудрому садовнику, советская литературная критика призвана взращивать богатый сад советской литературы, тщательно выпалывая чертополох и сорняки, бережно ухаживая за ростками новых талантов» («Литературная газета», 14 февраля 1948).
Как известно, «хозяином» и «садовником» называли самого Сталина. Первое слово использовалось неофициально, второе — публично.
Часть и целое
В результате соцреалистическая критика все больше стала походить на соцреалистическую литературу. Если литература должна была описывать «правду жизни в ее революционном развитии», то критике надлежало выполнять функции футурологического свойства, например «осветить прожектором путь вперед, в литературу коммунизма». Так, в 1948 году на страницах «Нового мира» писатель Борис Соловьев заявлял:
«Критика должна видеть не только то, что уже создано, но и то, чего еще нет в нашей литературе, но в чем назрела насущная необходимость, указать на это писателям, стимулировать появление произведений, которые отвечали бы новым, растущим потребностям нашего народа, — в этом сказалась бы активность нашей критики, ее воспитательное и преобразующее значение» (Соловьев Б. Заметки о критике. «Новый мир» № 3, 1948).
В сталинскую эпоху критика не только перестала выполнять какие-то самостоятельные функции, но фактически стала направляющей сталинского политико-эстетического проекта. Как заметил Борис Гройс, советская эстетическая теория представляла собой интегральную часть социалистического реализма, а не его метаописания, то есть не описывала соцреализм, а сама являлась его частью. От нее требовалось буквально то же, что и от литературы. В 1936 году критик Борис Серебрянский писал:
«Полностью критическая задача будет выполнена именно тогда, когда критик соотнесет художественную систему данного автора к эстетической норме всей советской литературы, т. е. к художественному методу социалистического реализма. А это и есть наша норма, в некоторых отношениях лежащая где-то вне творчества отдельных советских писателей: норма, реализуемая творчески одними писателями больше, другими меньше» (Серебрянский М. Для кого мы пишем? «Литературный критик» № 12, 1936).
Фактически соцреалистическая критика превратилась в институт самонастройки советской литературы, а потому могла существовать только внутри соцреалистических институций. После 1953 года критика начала постепенно эволюционировать в сторону либерализации, однако сложившаяся к окончанию войны система функционирования ее как идеологической институции в том или ином виде сохранялась практически до конца советской эпохи.