Праздник жизни Владимира Шарова
Об актуальном состоянии молодой науки шарововедения
Все мы начиная с 24 февраля 2022 года оказались перед лицом наступающего варварства, насилия и лжи. В этой ситуации чрезвычайно важно сохранить хотя бы остатки культуры и поддержать ценности гуманизма — в том числе ради будущего России. Поэтому редакция «Горького» продолжит говорить о книгах, напоминая нашим читателям, что в мире остается место мысли и вымыслу.
Я узнал о Шарове в 2015 году благодаря сотруднику красноярского независимого книжного магазина «Бакен» Дмитрию Чекану. «Оккупация» моей души Владимиром Александровичем шла неторопливо: его романы я читал в хронологическом порядке, начав со «Следа в след» и закончив «Царством Агамемнона» как раз тогда, когда он только вышел. Примерно на пятом романе, «Старой девочке», понял, что между нами все всерьез. Смерть писателя в 2018 году стала для меня страшным потрясением. После нее я перечитал все его интервью, все рецензии на его книги и решил, что во что бы то ни стало должен познакомиться с его вдовой. Так и произошло: через год я поступил в университет и переехал в Москву. Через друзей из «Бакена» получил адрес электронной почты вдовы писателя. Ольга Владимировна Дунаевская — так ее зовут — приняла меня очень тепло. С тех пор между нами завязалась крепкая дружба, и именно с 2019 года я отсчитываю свою «шарововедческую» карьеру. За прошедшие с ухода писателя семь лет многое изменилось, в том числе и нашими — моими и Ольги Владимировны — усилиями. Об этом я и хотел бы рассказать, сосредоточившись на четырех областях: изданиях Шарова в России и за рубежом, исследованиях истории его семьи, судьбе домашнего архива писателя и научной работе по изучению его творчества.
I. Издания и переводы
Писатель — это в первую очередь его тексты. Но представление о тексте как о сущности, обитающей в мире идей, безусловно, ошибочно. Даже в эпоху электронных книг бумажное издание по-прежнему сохраняет за собой «право первородства». Поэтому представленность автора в книжных магазинах — особенно независимых — по-прежнему определяет не только его доступность для читателей, но и статусность.
Издание своего последнего романа, вышедшего в 2018 году «Царства Агамемнона», Владимир Александрович еще успел увидеть при жизни. Сборник эссе «Перекрестное опыление» опоздал с выходом всего на несколько месяцев. Также после смерти писателя были опубликованы тезисы двух докладов на историко-политические темы, с которыми Шаров выступал на конференции в Риме в 1994 году. Они были подготовлены к печати в любимом Шаровым «Знамени» Ольгой Владимировной («Самовоспитание элиты — главная проблема русской истории») и другом писателя Александром Сергиевским («Российское общество и государственные учреждения на пороге третьего тысячелетия») и увидели свет в 2020 году.
Тогда же в издательстве «Текст» вышло сразу три романа Шарова — «Старая девочка», «Будьте как дети» и «Возвращение в Египет». Планировалось, что они положат начало полному собранию сочинений писателя, о котором он так мечтал. К сожалению, этот проект так и не был доведен до конца и дальше трех означенных изданий не пошел, но мы верим, что мечта Владимира Александровича еще будет воплощена в реальность.
В 2021 году скончалась от рака Роза Зарипова, основатель и директор прекрасного издательства ArsisBooks. Именно ей принадлежит первый «многотомник» Шарова: в 2009 году она разом выпустила романы «Репетиции» и «До и во время», а также сборник эссе «Искушение революцией», все — с фантастическими иллюстрациями художника Александра Смирнова, друга писателя. Менее заметным, но не менее значимым достижением Розы Константиновны стало первое (и пока единственное) издание романа отца Владимира Александровича, Александра Израилевича Шарова — «Происшествие на Новом кладбище». Шаров-старший писал его в последние годы жизни, писал в стол, безо всякой надежды на то, что этот текст когда-нибудь найдет своего читателя. Но он нашел — и уже сейчас может быть поставлен в один ряд, например, с «Факультетом ненужных вещей» Юрия Домбровского, другим чудовищным памятником судьбе интеллигентов в тридцатые годы.
1/6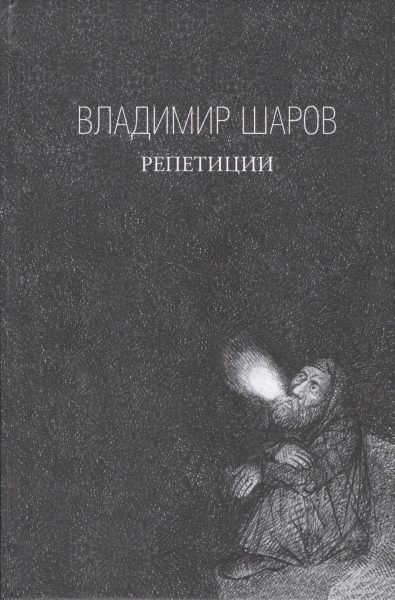 Владимир Шаров, «Репетиции». ArsisBooks, 2009 2/6
Владимир Шаров, «Репетиции». ArsisBooks, 2009 2/6  Владимир Шаров, «До и в время». ArsisBooks, 2009 3/6
Владимир Шаров, «До и в время». ArsisBooks, 2009 3/6  Владимир Шаров, «Искушение революцией». ArsisBooks, 2009 4/6
Владимир Шаров, «Искушение революцией». ArsisBooks, 2009 4/6  Владимир Шаров, «Старая девочка». Текст, 2020 5/6
Владимир Шаров, «Старая девочка». Текст, 2020 5/6  Владимир Шаров, «Будьте как дети». Текст, 2020 6/6
Владимир Шаров, «Будьте как дети». Текст, 2020 6/6  Владимир Шаров, «Возвращение в Египет». Текст, 2020
Владимир Шаров, «Возвращение в Египет». Текст, 2020 Сейчас главным издателем Шарова на русском является Елена Шубина. Сотрудничество между ними началось в 2003 году, когда в «Вагриусе» — главном издательстве современной русской литературы в нулевые — впервые вышел отдельным изданием роман «Воскрешение Лазаря». Продолжилось оно и тогда, когда Елена Даниловна «переехала» в АСТ и открыла там редакцию своего имени. Именно ей принадлежат посмертные переиздания тех романов Шарова, за которые не успел взяться «Текст».
Однако Шарова продолжают издавать не только в России. История его книг за границей началась почти тридцать лет назад, в 1996 году, когда он был еще не слишком известен даже у себя на родине, — тогда вышел перевод на итальянский скандального «До и во время». С тех пор многое изменилось: теперь Шарова можно прочесть не только на русском и итальянском, но и на английском, арабском, болгарском, китайском, словенском и французском языках.
Огромную работу по продвижению творчества Владимира Александровича за рубежом осуществляет Оливер Реди, чьи переводы на английский Достоевского, Буйды и Шарова отмечены многочисленными премиями. Благодаря ему в лондонском издательстве Dedalus уже вышли три романа писателя — «Репетиции» (2014), «До и во время» (2018) и «Будьте как дети» (2021). Сейчас Оливер закончил работу над переводом последнего, самого объемного романа писателя, — «Царство Агамемнона». Его выход в серии Classics издательства New York Review Books запланирован на 2026 год — это будет «дебют» Владимира Александровича в Соединенных Штатах. А вскоре после этого под совместной редакцией Оливера и американской славистки Кэрил Эмерсон в Columbia University Press должен выйти и первый сборник Шарова на английском, в который войдут мемуары, эссе и избранные стихотворения.
II. Генеалогические исследования
Владимир Александрович всегда говорил, что решающее влияние на формирование его как писателя оказала семья. Однако, говоря о семье Шарова, мало кто шел дальше обсуждения роли отца — и, еще реже, матери — писателя в его жизни. Казалось бы, ничего странного в этом нет: только одна из бабушек Владимира Александровича пережила репрессии — о каком влиянии тут говорить? Но нельзя недооценивать значение той дыры, которая осталась в семье Шаровых — в семейной истории — после 1937–1938 годов. В некотором смысле романы Владимира Александровича можно трактовать именно как странную попытку эту дыру заполнить. Чтобы разобраться в этом, мне и пришлось обратиться к архивной работе: при содействии Ольги Владимировны я собрал связанные с предками Шарова документы из ГАРФ, архива ФСБ, РГАЛИ, РГАСПИ и РГАЭ. Результаты этой работы заслуживают отдельной научной статьи, однако мне кажется важным поделиться с широким кругом читателей ее промежуточными результатами.
Больше всего известно о бабушке Шарова по отцу, Фанни Ефимовне Нюриной (1885–1978). О ней даже можно найти множество статей в интернете, но все они восходят к одному источнику, который к тому же не во всем заслуживает доверия. Она родилась в Бердичеве, «еврейской столице Российской империи», в купеческой семье. В 1902 году вступила в БУНД, активно занималась политической деятельностью, в том числе за рубежом. В 1920 году покинула БУНД и вступила в РКП(б), окончательно переехала в Москву и начала строить карьеру: сначала в женском отделе ЦК РКП(б), затем — в Наркомате юстиции. Достигла там невероятных высот: была единственной в истории Советского Союза женщиной, исполнявшей обязанности прокурора РСФСР. В 1938 году была расстреляна по сфабрикованному делу, в 1956-м реабилитирована «за отсутствием состава преступления». Славилась железной волей: несколько месяцев проведя в заключении, не оговорила ни одного из своих мнимых «подельников».
Ее мужа звали Израиль Исаакович Нюренберг (1885–1949). Его ранняя биография повторяет биографию жены: родился в Бердичеве и происходил из купеческой семьи, в 1902 году вступил в БУНД, несколько месяцев провел в тюрьме, жил за рубежом, в 1920-м «перевелся» в РКП(б) и переехал в Москву. Там занимался преподавательской и редакторской работой. Сменил множество должностей, самая высокая из которых — проректор по учебной части Государственного университета журналистики (1928–1929). Наиболее удивительно, что он был арестован не вместе с женой, а только десять лет спустя, в 1947-м. Тогда же был сослан в ГУЛАГ, где через два года и скончался. Увлекался историей и, по семейному преданию, даже написал книгу о Французской революции, но, страдая ментальным расстройством, сжег ее во время одного из приступов.
Дедушка Шарова по материнской линии Михаил Иосифович Лифшиц (1899–1937) родился в учительской семье в Орше. Высшего образования не имел (Фанни Ефимовна и Израиль Исаакович были вольнослушателями европейских университетов). В 1919 году вступил в РКП(б) и стал журналистом: на пике карьеры был заведующим отделом «Правды» (1931–1932) и «Известий» (1932–1933). Параллельно продвигался по партийной службе вплоть до должности заместителя главного арбитра при СНК СССР (на момент ареста). В 1937 году расстрелян.
О его жене, Тэме Израилевне Лифшиц, известно значительно меньше, несмотря на то, что она единственная из бабушек и дедушек Владимира Александровича пережила репрессии — о своем прошлом говорить она не любила. На момент ареста мужа работала в Музее революции. После его расстрела была сослана в ГУЛАГ, где отсидела пять лет. После освобождения была вынуждена жить за «сто первым километром», однако после войны незаконно вернулась в Москву и проживала там вплоть до самой смерти в 1974 году: сначала в маленькой комнате в коммунальной квартире, потом вместе с дочерью. Владимир Александрович очень ее любил, однако после ее смерти часто выражал сожаление о том, что был с ней недостаточно близок.
1/5 По-видимому, школьная фотография Фанни Ефимовны 2/5
По-видимому, школьная фотография Фанни Ефимовны 2/5  Фанни Ефимовна, 1930-е годы 3/5
Фанни Ефимовна, 1930-е годы 3/5  Фанни Ефимовна в заключении, 1938 год 4/5
Фанни Ефимовна в заключении, 1938 год 4/5  Единственное сохранившееся фото Израиля Исааковича, 1936 год 5/5
Единственное сохранившееся фото Израиля Исааковича, 1936 год 5/5  Единственное сохранившееся фото Тэмы Израилевны, начало 1970-х годов
Единственное сохранившееся фото Тэмы Израилевны, начало 1970-х годов В качестве интересного факта также отмечу, что, составляя генеалогическое древо Шарова на основании информации из семейных источников и информации из интернета, мне также удалось выяснить, что среди его дальних родственников числятся Марк Шагал и Генрих Сапгир, Михаил Булгаков, Марина Цветаева, Яков Зельдович, Михаил Гаспаров и многие другие выдающиеся люди.
III. Источниковедение и текстология
Владимир Александрович принадлежал, как теперь кажется, к последнему поколению писателей, работавших от руки и на печатной машинке, а не за компьютером. Пользоваться им Шаров не умел, вернее не хотел учиться — шутил, что, если однажды получит доступ к интернету, больше не сможет встать из-за стола, настолько его затянут нескончаемые потоки информации. Это огромное преимущество для филологов, которые занимаются (и будут заниматься) нашим временем: обилие рукописных текстов — раздолье для источниковедческой и текстологической работы.
Вопрос о дальнейшей судьбе домашнего архива Шарова после его смерти встал довольно остро. Никакой его описи Владимир Александрович после себя не оставил. Бумаги находились в нескольких квартирах разом: ими были набиты чемоданы и коробки, чуланы, шкафы и антресоли, ящики столов и подоконники. Их содержание и сохранность иногда были под вопросом. Вариантов было немного: оставить все как есть или сдать в государственный архив.
Хранение такого количества бумаг дома сопряжено с большими трудностями. Помимо того, что они занимают огромное пространство, им нужны особые условия. Превращать свою квартиру в проходной двор для исследователей Ольге Владимировне тоже не очень хотелось. И это не говоря о стихийных бедствиях: забегая вперед, скажу, что всего через несколько месяцев после сдачи архива в доме Шаровых случился крупный пожар. Конечно, архивы тоже от этого не застрахованы, но они по крайней мере в большей степени приспособлены к тому, чтобы разбираться с последствиями.
Поэтому мы решили, что сдадим все в РГАЛИ, предварительно оцифровав все бумаги самостоятельно. Цель этого предприятия заключалась в том, чтобы предоставить доступ к архиву Шарова как можно более широкому кругу исследователей. Вопрос заключался в том, как это сделать. У меня не было никакого опыта работы с архивными документами, по крайней мере с такими разнообразными и в таком объеме. Большое значение имело и техническое обеспечение: я узнал, что одни виды сканеров лучше подходят для работы с книгами, другие — для сканирования разрозненных листов; одни имеют функцию автоподачи, а другие — сканируют только «со стекла»; одни имеют площадь рабочей поверхности, равную листу A4, а на других — можно сканировать ватманы, но они занимают соответствующее количество места. Что из этого лучше подойдет нам?
В итоге приходилось работать «на ощупь». Конечно, с нынешним опытом я бы многое сделал по-другому: купил сканер побольше, сканировал все в цвете, в некоторых случаях прибегал к помощи CamScanner. Оказалось, что у Шарова была интересная привычка. Он мог исписать целый лист, но счесть удачным только один абзац или даже одну строчку. Но вместо того чтобы просто переписать этот короткий текст, он вырезал нужный ему фрагмент и приклеивал его к другому листу. Иногда такие «монстры Франкенштейна» разрастались до метровых размеров и хранились, как египетские папирусы, рулонами. Работа велась долгие и утомительные два с половиной года. Кому и зачем она была нужна, понятно было не всегда. Часто опускались руки. Но по итогу она была завершена. И сейчас у меня нет никаких сомнений в том, что это того стоило.
Общий объем архива — более 28 000 файлов в разрешении 300 dpi и формате TIFF, предполагающем минимальное сжатие изображения. Совокупный вес архива — более 230 гигабайт. Внутри — несколько редакций каждого романа Шарова (рукописные черновики, машинописи с рукописной правкой, машинописные чистовики), стихотворения, эссе, научные работы, переписка, личные документы, фотографии. Наибольший интерес среди всего этого, конечно, представляют неопубликованные работы, о которых я кратко и расскажу.
Владимир Александрович любил свои тексты, хотя никогда не перечитывал их целиком, поэтому среди его романов есть только один неопубликованный — самый первый, под названием «Путешествие Джона Крафта, или История моего рода». Сам Шаров считал его своеобразным ответом на «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта, которое очень любил. Несмотря на то что до конца жизни писатель сохранял теплые чувства к этому тексту, публиковать его он не хотел — называл роман ученическим. К тому же значительные куски из него затем вошли в «След в след», в первую редакцию которого Шаров поместил вообще все свои тексты, включая стихотворения и эссе, поскольку боялся, что эта публикация может так и остаться его единственной. Именно по этой причине роман вышел в «Урале», а не в «семейном» для Шарова «Новом мире», в котором всю жизнь публиковался Шаров-старший: главный редактор журнала Сергей Залыгин счел роман перегруженным и настаивал на сокращениях. Из позднейших изданий Шаров эти вставки действительно изъял, но тогда это был для него вопрос принципа, и он все оставил как есть, передав роман в другой журнал, редакция которого была более «сговорчивой». Несмотря на все это, «Путешествие...» остается очень самостоятельной вещью, и я не теряю надежды, что через много лет все-таки получу разрешение на то, чтобы его издать.
Другое найденное нами сокровище — единственный киносценарий Шарова, который он написал специально для Александра Аскольдова, режиссера одного из главных перестроечных фильмов «Комиссар». История этого текста — настоящий детектив, который я надеюсь опубликовать в качестве предисловия к самому сценарию в ближайшее время. Он называется «Великий Соломон» и развертывается вокруг судьбы Соломона Михоэлса, советского театрального режиссера, заведовавшего в тридцатые годы собственным театром в Москве, постановки в котором шли на идише. Он был убит по заказу Сталина в начале пятидесятых, но в тексте Шарова это событие приобретает привычный для писателя эсхатологический контекст. Фильм по этому сценарию так и не был снят, и Аскольдов переработал его в роман, единственная публикация которого состоялась на немецком в 1998 году под названием Heimkehr nach Jerusalem («Возвращение в Иерусалим»). Вспоминать об этом тексте Аскольдов не любил и в своих интервью делал это очень редко, мимоходом; Шарова же ни в интервью, ни в самом романе не упоминал ни разу.
1/4 Начало машинописи романа «Путешествие Джона Крафта» 2/4
Начало машинописи романа «Путешествие Джона Крафта» 2/4  Начало машинописи романа «Путешествие Джона Крафта» 3/4
Начало машинописи романа «Путешествие Джона Крафта» 3/4  Начало машинописи (с рукописной правкой) сценария «Великий Соломон» — также хороший пример «папирусов» Шарова 4/4
Начало машинописи (с рукописной правкой) сценария «Великий Соломон» — также хороший пример «папирусов» Шарова 4/4  Начало машинописи (с рукописной правкой) сценария «Великий Соломон» — также хороший пример «папирусов» Шарова
Начало машинописи (с рукописной правкой) сценария «Великий Соломон» — также хороший пример «папирусов» Шарова Помимо этого, в архиве были обнаружены первые рецензии на публикации текстов Шарова (обнаружить которые без этого было бы очень непросто), несколько неопубликованных эссе, старые семейные фотографии и, конечно, черновики всех романов и кандидатской диссертации. Небольшой «пробел» есть только в переписке: последние двадцать лет жизни Владимир Александрович вел ее по электронной почте — конечно, через Ольгу Владимировну. Поэтому разобраться с ней — отдельное, не очень большое, но и не очень простое дело.
Мы надеемся, что в ближайшие два года все же сможем сделать сайт, на который выложим всю имеющуюся у нас информацию о Шарове: книги, интервью, рецензии, а также оцифрованный архив с частичной расшифровкой. Осуществить это будет не очень просто: чтобы сделать красивый и, главное, функциональный сайт, на котором будут храниться и корректно отображаться сотни гигабайтов информации, нужно очень много денег и времени. Но у нас все обязательно получится!
1/3 «Внутренняя рецензия» Сергея Залыгина на роман Шарова «До и во время», 1992 год 2/3
«Внутренняя рецензия» Сергея Залыгина на роман Шарова «До и во время», 1992 год 2/3  «Внутренняя рецензия» Сергея Залыгина на роман Шарова «До и во время», 1992 год 3/3
«Внутренняя рецензия» Сергея Залыгина на роман Шарова «До и во время», 1992 год 3/3  Заметка Петра Спивака «“Новый мир” — сам себе “Октябрь”», посвящённая скандалу вокруг публикации «До и во время», 1993 год
Заметка Петра Спивака «“Новый мир” — сам себе “Октябрь”», посвящённая скандалу вокруг публикации «До и во время», 1993 год IV. Статьи и конференции
На известность и популярность Шарова очень повлияли комплиментарные рецензии таких непримиримых критиков, как Самуил Лурье, Вячеслав Курицын и Виктор Топоров, а на последующее за этим «включение» Шарова в научный дискурс — Марк Липовецкий и его отец Наум Лейдерман, которые много писали о нем в своих учебниках и монографиях по современной русской литературе. Поэтому уже в нулевые о Шарове стало выходить множество статей, которые до сих пор можно найти в eLibrary и «КиберЛенинке». Большинство из них не отличаются глубиной, но свою роль в «закреплении» Шарова в литературоведении они сыграли. В десятые, когда Шаров стал по-настоящему известен (а произошло это после присуждения ему «Русского Букера» за роман «Возвращение в Египет» в 2014 году), по Шарову уже защищали диссертации и выступали с докладами на конференциях.
Первая таковая состоялась, по-видимому, в 2012 году в Оксфорде, затем — в 2013 году в Лондоне, в 2015 году — в Нью-Йорке и Бруклинской библиотеке, в 2018 году — в Вашингтоне и «Пушкинском доме» в Лондоне. Владимир Александрович присутствовал на каждой из них в качестве почетного гостя, читал свои тексты и даже сам выступал с докладами, например об Андрее Платонове. После смерти писателя чтения и презентации сменились более научным форматом — посвященные Шарову доклады читали в 2019 году на Съезде славистов в Загребе и в Колумбийском университете в Нью-Йорке, в 2021 году — в Оксфорде, а совсем недавно, в 2024 году, — в Бостоне.
Но главное событие в области шарововедения — это, конечно, вышедший в 2020 году, всего через два года после смерти писателя, сборник «Владимир Шаров: по ту сторону истории», подробный обзор, а также фрагмент из которого уже публиковались на «Горьком». Однако большая часть научных (не мемуарных) статей сборника сосредоточены в узком круге тем: Шаров-романист, Шаров-историософ. С одной стороны, это абсолютно понятно и в каком-то смысле даже правильно, с другой — творческое наследие Шарова, безусловно, шире тех рамок, в которые мы пытаемся его вписать. Поэтому мы с Ольгой Владимировной приняли решение провести первую в России конференцию, целиком посвященную Владимиру Александровичу.
Она пройдет 15–16 мая 2025 года на базе Школы филологических наук НИУ ВШЭ и будет называться «Не-роман с историей. Разнообразие жанров и направлений творчества Владимира Шарова». В организации также принимает участие профессор Михаил Георгиевич Павловец, который любезно согласился помочь нам с формальной стороной вопроса. В рамках этой конференции нам хотелось бы сосредоточиться на «малоизвестном» Шарове — поэте, эссеисте, сказочнике и так далее, — для того чтобы расширить и углубить представление о нем как о многогранном писателе и мыслителе, а не только романисте-историософе.
В работе конференции в качестве приглашенных докладчиков примут участие как уже зарекомендовавшие себя «шарововеды» — Марк Липовецкий, Александр Горбенко, Амина Габриэлова, сама Ольга Владимировна и я, — так и междисциплинарные исследователи, например Анастасия Гачева, специалистка по творческому наследию Николая Федорова, который очень повлиял на понимание Шаровым русской истории. Если желаете присоединиться к нам и выступить с докладом, open-call открыт до 14 апреля, за новостями конференции также можно следить по ссылке.
Официальными партнерами конференции выступят издательства «Редакция Елены Шубиной» и «Новое литературное обозрение». Благодаря им во время конференции можно будет приобрести как последние переиздания романов Шарова, так и сборник посвященных ему статей. На конференции будет организована книжная выставка, на которой можно будет полистать памятные издания Владимира Александровича, и выставка книжной иллюстрации Александра Смирнова, о котором мы писали выше.
Заключение
Несмотря на то что заявленная цель этого текста — ознакомить читателя с главными событиями в области шарововедения за последние годы, на самом деле мне хотелось только одного: в этот праздник жизни Владимира Александровича напомнить всем о том, каким хорошим и интересным человеком он был, какие чудесные книги писал. Его книги, его мысли, люди, которые его любили, продолжают жить, помнить и думать о нем. Это ли не главное?