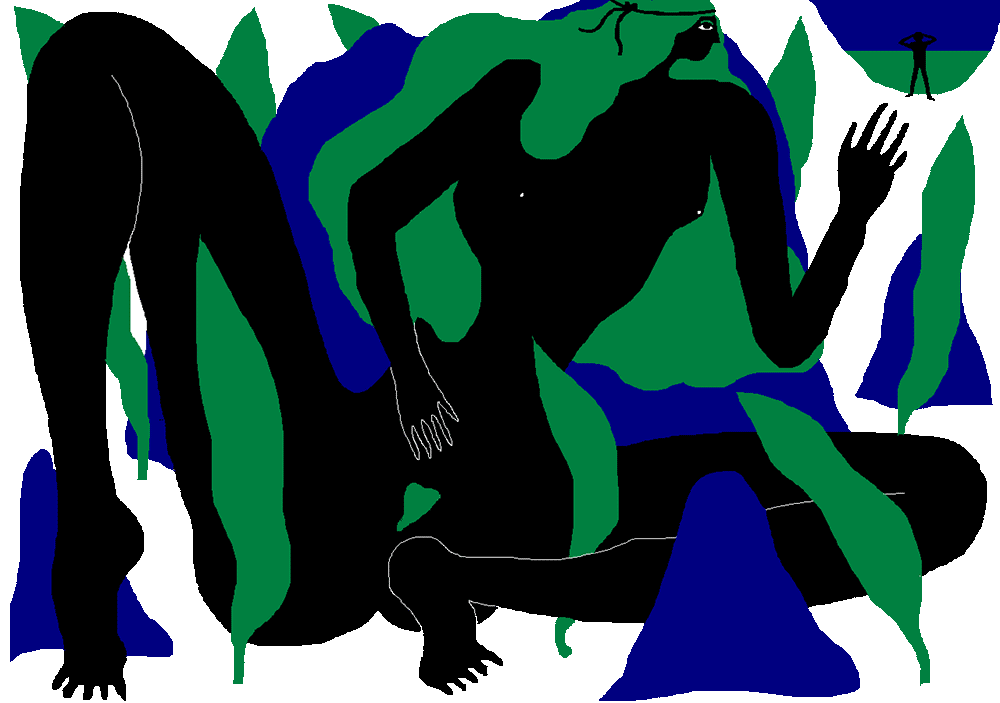Потусторонним вход воспрещен!
Интервью с Олегом Постновым, автором романа «Страх»
Ваше творчество ассоциируется в первую очередь с литературой романтизма (Гоголь, Гофман, По), но диссертацию вы в свое время посвятили Гончарову, а не, скажем, Одоевскому. Не могли бы вы вкратце рассказать, как сложились ваши читательские предпочтения, научные интересы и творческий метод?
В работе о Гончарове я старался выяснить, как он, один из старших русских реалистов (он родился в 1812 году), создавал основы этого нового тогда литературного направления. Суть сводилась к тому, что он синтезировал романтизм и классицизм, и при внимательном чтении это можно заметить. Именно в этом смысле я его ученик (вероятно, правда, не лучший). Но есть важное ограничение: у Гончарова, как и во всей последующей русской классической литературе, вдруг попала под запрет темная сторона реальности — тайна, магия, мистика. В крайнем случае ее стали сводить к психическим отклонениям. Таков черт в «Братьях Карамазовых», таков Черный монах в рассказе Чехова. Но в своей жизни я не раз сталкивался с явлениями сверхъестественными. А читать о них доводилось только лишь у романтиков, в том числе перечисленных вами. Реализм же молчал. «Потусторонним вход воспрещен!» — это его девиз. Он даже заставил умолкнуть романтиков, которые ведь не умерли с приходом в литературу реалистов. Но как быть, если это молчание, эта нарочитая лакуна противоречит моему личному опыту? Именно тому опыту, большу́ю долю которого я «уступил» главному герою «Страха»? И в конце концов я попросту посчитал, что из романтизма было взято слишком мало. Был упущен один из законов мироустройства, одна из основ бытия. Обратите внимание: ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Гоголь такой ошибки не сделали, задав задачу литературоведам, к кому же их причислять — к романтикам или реалистам? Для меня тут вопроса не было. Мне нужен был именно «обогащенный» реализм. Со стороны стиля наши величайшие мастера дали столь грандиозные образцы владения словом, что, освоив их — хотя бы в самой малой мере — и приноровив к собственным языковым предпочтениям, я как раз и получил возможность реалистически описывать сверхъестественные явления, даже делать их основой сюжета или судеб своих героев. А в результате вышло так, что, читая «Страх», одни вспоминают романтиков, обнаруживая их темы и похожие образы, а другие — реалистов, видя перед собою стиль, которым настоящие романтики (имею в виду русских), увы, не владели. В этом смысле ключевой оказывается опять-таки фигура Гончарова. Он много раз повторял, что его литературные учителя — Пушкин, Лермонтов и Гоголь. Но именно он-то и не взял у них ту заветную составляющую, без которой изображаемый мир сделался обедненным. Потому закономерна тяга к фантастике в XX и XXI веках и подспудное отторжение литературы XIX столетия. Или даже не подспудное. Сколько раз доводилось слышать, что она «скучна»! Но я не хотел и фантастики. Я писал и пишу о том, что так или иначе существует на самом деле, здесь, в обитаемом нами мире. О том, о чем лучше знать, иметь понятие, а не отводить взгляд, когда это «что-то» внезапно вторгнется в повседневную жизнь, упразднив правила, к которым мы привыкли. Что, к слову сказать, и происходит в «Страхе».
Вы коренной житель новосибирского Академгородка, но ваши книги свидетельствуют о близком знакомстве с Киевом, украинским языком и деревней. Вам доводилось там жить?
Я родился зимой, а летом меня увезли под Киев, в тот самый Тетерев, который описывается в романе. Там я прожил полтора года. В доме моего дедушки говорили по-украински, поэтому с детства я знаю два языка. Украинский сейчас начинает потихоньку затухать у меня в уме, я давно не был на Украине. Но в детстве, как только наступала весна, меня отправляли к дедушке и бабушке до самой осени. Когда я вырос, то стал ездить из Тетерева в Киев и предпринимал походы по городу, который в конце концов изучил лучше, чем любой другой, включая и Новосибирск.
Впоследствии опыт украинской жизни лег в основу романа «Страх»?
Да, хотя «Страх» вначале задумывался лишь как рассказ о необычных событиях в деревне, часть которых я видел собственными глазами. Видел я и вражду двух семей, ставшую основой повествования. Именно благодаря ей рассказ начал постепенно перерастать в роман. Но, в отличие от своего героя, сам я участия ни в чем не принимал, довольствуясь позицией наблюдателя. И, разумеется, многое домыслил: роман не отчет о происшедшем, у него другие цели. Сейчас я работаю над очередным романом, он тоже связан с Украиной, с Одессой. И еще одна моя книга — «Поцелуй Арлекина» — имеет «украинскую» часть. Это не случайно. В конце концов, по моему замыслу, все эти романы, в том числе еще не написанные, должны составить цикл, некое единство. В том, который я пишу сейчас, мистические темы слегка спрятаны. Их можно найти, но можно и не заметить или не придать им значения. Выбор за читателем. Ему решать, верит ли он главному герою, рассказывающему о себе, или нет. С точки зрения формы это будет роман в классическом смысле слова, повествование начинается с самого детства героя и доводится почти до его смерти. Но сам герой совершенно не «классический». Он наделен не вполне обычными чертами, благодаря которым как раз и попадает в водоворот событий, составляющих суть всей истории. И при этом только он сам свидетельствует о себе, так что никто не обязан ему верить.
То есть роман все же мистический — хотя бы с точки зрения героя?
С его точки зрения — пожалуй, хотя свои особенности он воспринимает как естественные. А сам я даже не знаю, как их назвать. Однако благодаря им некое подобие мистики в романе присутствует, есть та самая оборотная сторона. Но не потому, что мне так захотелось, а потому, что я в повседневной жизни беспрерывно отмечаю явления, которые словно бы нарушают нормальные, причинно-следственные связи. Описать мир, игнорируя их, я не могу. И получается парадокс, который, впрочем, и должен был получиться: чем больше я стремлюсь к реализму, тем загадочней делается изображаемый мною мир. Это касается и некоторых свойств моего героя.
Какие сверхъестественные явления вам доводилось наблюдать в реальности?
Последнее произошло буквально перед тем, как я собрался на встречу с вами. Шторы у меня были задернуты, я чуть-чуть их раздвинул и взял бокальчик соку: выпить, чтобы было легче говорить. И в тот же миг прохожий за окном тем же жестом запрокинул банку кока-колы одновременно со мной, словно в зеркале, — мелочь, казалось бы, но в моей жизни было много таких совпадений, которые в итоге что-нибудь да значили. Это пример так называемой синхронистичности, изучавшейся Юнгом. Он ее описал, но природу этого явления, похожего на случайность, только слишком частого для случайности, определить не смог. Между тем это, так сказать, основа сверхъестественного, сама по себе, в общем, безобидная. Она только дает знать, что мы живем в мире более сложном, чем сплетения цепочек из причин и следствий. Со мной происходили события и посерьезней.
Что, например?
Ну, например, в «Страхе» я описал женщину в белом — это было наше семейное привидение. Я ее видел однажды ночью едва-едва: белое пятно, фигура вроде бы женская, стоит в проеме двери. А вот мама и ее сестра, моя тетка, рассмотрели ее ясно. Старинное белое платье с кружевами на запястьях и кружевная же белая накидка. Лицо незнакомое. Дедушка над этим хихикал, но и он однажды ее видел, хотя был атеист и в подобные вещи не верил. А когда увидел, то, как и положено, остался лежать в кровати и по дому не ходил. Потому что на Украине существует поверье, согласно которому ходить вслед за призраком опасно. Можно только встать и закрыть дверь. А выходить из комнаты нельзя, этому учат и детей. Выход из комнаты после такого явления ведет либо к смерти кого-то из близких, либо к большой беде.
А вы верите в приметы, предзнаменования?
Сложный вопрос, именно для меня. На Украине существуют такие приметы и ритуалы, которых нет в России, и наоборот. Но есть еще верования параллельные, однако с противоположными знаками. Например, на Украине посуда бьется к несчастью, а в России — к счастью. Как, спрашивается, мне быть? Приходится учитывать контекст. У меня она бьется в разных случаях то «по-украински», то «по-русски».
1/2 Олег Постнов дает интервью журналистке Маргарите Логиновой для сайта «Горький» Фото: Дмитрий Елисеев 2/2
Олег Постнов дает интервью журналистке Маргарите Логиновой для сайта «Горький» Фото: Дмитрий Елисеев 2/2  Олег Постнов дает интервью журналистке Маргарите Логиновой для сайта «Горький» Фото: Дмитрий Елисеев
Олег Постнов дает интервью журналистке Маргарите Логиновой для сайта «Горький» Фото: Дмитрий Елисеев Можно ли сказать, что роман «Страх» автобиографичен?
Я только «уступил» главному герою некоторые вещи и события — в частности, женщину в белом, усадьбу дедушки, усадьбу писательницы «Плакучие Ивы». Я, как и он, плавал по реке ночью: нашел на чердаке керосиновый фонарь — именно фонарь, не лампу, — укрепил на носу лодки и с его помощью ориентировался в темноте. Но никогда никого не встречал в этих своих плаваньях. Зато купаться было очень хорошо. На той реке было много чудесных растений, попавших туда будто из Красной книги. Особенно радовали всегда белые лилии.
Ночное плавание — вызов самому себе, своего рода испытание страхом?
Нет, мне просто нравилась таинственность. Я ничего не боялся, ландшафт моего детства казался мне безопасным, и зря. Однажды летом самый младший из моих двоюродных братьев в этой реке утонул. Он был, конечно, ребенок. Но на Украине лезть в воду, не зная броду, и взрослым нельзя. Реки имеют свои особенности, и они зачастую совсем не очевидны. С ними нужно обращаться очень осторожно. Известное дело, например, что на Троицу, согласно поверью, тонут. И вот: как Троица — так похороны, а это же не город, через всю деревню идет процессия под оркестр, как раз по улице, где жил мой дедушка. Весомый, согласитесь, довод в пользу «предрассудка».
Лес, описанный в романе, тоже навевал вам в детстве особые чувства?
Тетерев в самом деле стоит на краю огромного и древнего леса, который уходит чуть ли не в Польшу, заблудиться в нем можно в два счета, и выглядит он как раз подходящим для действия того рассказа Эдгара По, с упоминания о котором и начинается «Страх». Но я там никогда не блуждал: мой дедушка занимался лесоводством, поэтому у меня всегда была карта и я с детства умел ориентироваться в лесу.
Дедушку вы тоже «уступили» своему герою?
Совсем немного и особенно неохотно. О нем ведь почти ничего в романе и не говорится. Мой дедушка был специалистом по подсочке — это добывание сосновой смолы, из которой делается скипидар и другие полезные снадобья. Он мне привил хозяйский, деловой взгляд на лес, а это не способствует мистическим откровениям. Хотя самому дедушке за его длинную, полную самых разных событий и приключений жизнь приходилось не раз сталкиваться со сверхъестественными вещами. Но они никак не сбивали его с позитивистского взгляда на мир. Он хорошо знал философию Спенсера и отчасти Огюста Конта и на том стоял.
А что могло сбить его с позитивистских позиций?
Например, предсказание цыганки. Когда он был мальчишкой, некая цыганка нагадала ему, что он умрет либо в 20 лет, либо в 40, либо доживет до 96. В двадцать он перенес тиф и остался жив — один из всех заболевших родственников; в сорок, то есть в 1942 году, был по доносу арестован гестапо и чудом избежал расстрела. А умер он на 97-м году жизни.
Но если подобные вещи происходили, ваш дедушка не мог ведь попросту закрывать на них глаза?
Конечно, он их замечал. Но он относился к так называемой деревенской интеллигенции, у него было высшее образование, он говорил на чистом литературном украинском, равно как и на русском, много читал, а потому верить в сверхъестественные явления ему не полагалось, так сказать, по статусу. На всякую мистику он смотрел скептически. Старался придерживаться рационального подхода к вещам необъяснимым. По поводу нашего фамильного привидения, например, он говорил: «Ну приходит. Значит, есть что-то такое, чего мы пока не знаем». «Мы» то есть наука. И, странное дело, его неспешные, вдумчивые суждения, подобные этому, очень успокаивали.
Вполне в духе конца XIX века подход.
Были и другие случаи. В двадцатых годах произошло чудо по всей Украине: старые иконы, потемневшие от времени, внезапно сделались светлыми. Верующие, разумеется, считали, что святые проглянули с икон, чтобы поддержать страждущий народ. Дедушка же пришел к заключению, что в этот момент произошло что-то с воздухом, что-то появилось в нем, поэтому краски на иконах и посветлели. Такой у него был подход — без восторга и без боязни.
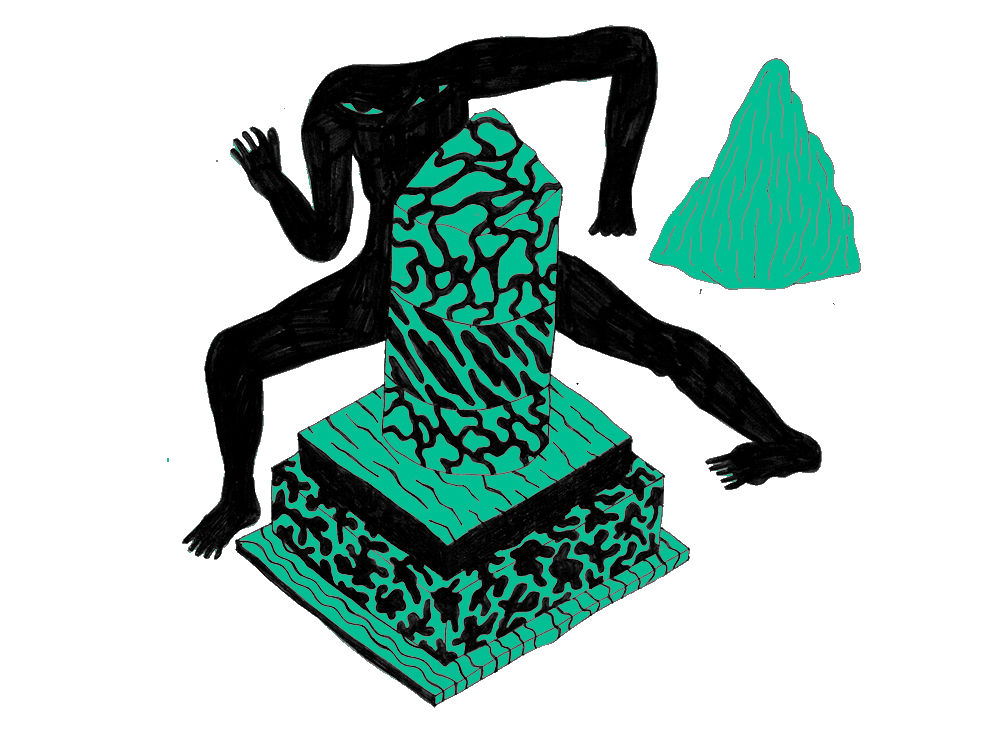
Но сами вы смотрите на мир иначе.
Я был свидетелем ряда вещей, которые рационально никак не объяснишь, но описал я их не столько в «Страхе», сколько в «Поцелуе Арлекина». Там (как я уже говорил) есть «украинская» часть, и в ней я рассказал кое-что из того, что видел своими глазами. Однажды я сильно заболел, и мне довелось поездить по деревенским бабкам, причем забирался я в такие глухие места, где не то что железных, но вообще никаких дорог нет, тогда как Тетерев — железнодорожный разъезд. Вот там я насмотрелся чудес и, кстати, увидел, как прочно держится в людях вера в возможность чуда — и вера вообще. Одна из бабок-целительниц была известна тем, что многих вылечила с помощью молитвы, а не колдовства. К ней приезжало немало народу. В «Поцелуе Арлекина» я предельно точно описал, что в ее доме происходило на моих глазах, кроме только одной, касающейся лично меня детали. Случилось же вот что: бабка встала на молитву, какое-то время клала поклоны, а потом вдруг говорит: «Что-то тяжко молиться сегодня, кто-то тут некрещеный». Все вокруг начали кресты вынимать, и оказался некрещеным один я. На меня было окрысились, стали говорить, мол, надо его выгнать вон, но бабка запретила им. Тогда меня спросили, почему я атеист. А я ответил, что я из Сибири, из Академгородка, у нас там даже и церкви-то нет — в ту пору ее действительно не было. «А-а-а, — сказали мне тут, — ученый, значит, ну все понятно».
Не знаю, доводилось ли вам видеть известную запись беседы с поэтом и переводчиком Евгением Головиным, в которой он рассказывает о том, как в юности в какой-то глухой русской деревне сталкивался с различными проявлениями сверхъестественного и в том числе своими глазами видел кикимору (кикимора начинается примерно с 15-й минуты). Сложно сказать, действительно ли такая встреча произошла или это только художественный вымысел, — во всяком случае, история, рассказанная от первого лица, а не от имени героя романа, производит сильное впечатление. Вас никогда не тревожило то, что мистический опыт, облеченный в форму литературного произведения, а не личного свидетельства, может утратить силу и упроститься?
Вначале тревожило. Но после публикации «Страха» появились рецензии в Белоруссии и на Украине, авторы которых самым серьезным образом обсуждали эзотерическую сторону романа, приводили примеры похожих историй, случавшихся либо с ними, либо известных им с чьих-то слов. Был даже один разбор описанной мною «черной свадьбы», в котором рецензент доказывал, что так хоронят ведьм не в Киевской области, а значительно западней, ближе к Галиции и т. п. Получалось, что роман был принят именно как реалистический — если не всеми, то многими. А реализм ведь тем и отличается от других литературных направлений, что описывает мир «как он есть», и это правило было применено к моему «обогащенному» реализму. Но тут возникает новая опасность — чрезмерное умножение мистического, перекос в другую сторону. Необходима мера. Мне как-то довелось, еще при прежнем режиме, читать так называемую Записку Правительству СССР. Это было многотомное издание с номерными экземплярами и, разумеется, ограниченным доступом. Но в Академгородке тогда существовали свои преимущества. И вот мне попал в руки том, посвященный феномену полтергейста. Там «суконным языком плаката», а вернее, кривописью милицейских протоколов, были изложены десятки случаев полтергейста, не вызывавшие ни малейшего сомнения, поскольку удостоверяла все это сама милиция, а также и пострадавшие, и привлеченные понятые. Протоколы скреплялись печатями и подписями, передавались затем в вышестоящие инстанции, обсуждались экспертами и проч. Позже я использовал этот материал в главе «Арлекина», так и озаглавленной — «Полтергейст». Не знаю, хороша ли эта глава, но что касается «Записки», то, несмотря на ее статус, отменявший любые сомнения, несмотря на великую удачу вообще держать в руках подобную книгу, читать это было до одури скучно, я так весь том и не одолел. Вспомните «Бегущую по волнам» А. С. Грина. Биче Сениэль никогда не поверит в чудо, а Дэзи — в мир, где чудес нет. И никакие свидетельства или посюсторонние объяснения «экспертов» (какие могут тут быть эксперты?!) этого не изменят. Тогда как художественный текст, ни к чему читателя не принуждая, дает людям шанс пережить в воображении то, что в реальности они бы не приняли. И тем самым отрывает их взгляд от двумерной плоскости будней, в чем как раз и заключается одна из главных целей писательского труда. Что же до кикимор Головина, то у меня нет сомнений в достоверности его рассказа. Некоторые мелкие детали — к примеру то, как первая старуха похлопала ладонью по воде, призывая других, — не придумаешь, такое нужно увидеть.
В «Страхе» много литературных аллюзий — наверняка ведь, помимо очевидного Гоголя, у вас были литературные первоисточники, которые неподготовленный читатель не сможет распознать?
Разумеется, были. И в первую очередь следует сказать об украинском писателе-эмигранте Владимире Кирилловиче Винниченко. Всякий, кто прочтет его роман «Записки Кирпатого Мефістофеля» («кирпатый» означает «курносый»), непременно заметит нечто общее с моим романом. Даже сама тема поиска возлюбленной, ускользнувшей и затерявшейся где-то в лабиринтах Киева, была, так сказать, подсказана мне «Записками». Эта «подсказка», впрочем, была неизбежна: я прочитал роман еще подростком, и он меня очаровал. Я даже обеспокоил этим дедушку — по тем временам «Мефистофеля» можно было счесть эротическим произведением. Сейчас, конечно, он выглядит как сама невинность. А тогда я бродил по Киеву, отыскивая «мефистофельские» места, ездил по тем же трамвайным веткам, что и главный герой — они сохранились с 1916 года, когда был написан роман, — с этого я и начал подробно изучать город.
А какие-нибудь другие украинские писатели повлияли на вас?
В детстве мне было все равно, на каком языке читать, на русском или на украинском, а у дедушки была небольшая, но хорошо подобранная библиотека. Безусловно, там была и русская литература, но почему-то так получалось, что, приезжая в Тетерев, я читал украинских писателей, а русских — дома, в Академгородке. Ну и, конечно, я не мог пройти мимо знаменитого триумвирата — Шевченко, Леся Украинка и Иван Франко. Что касается влияния, то само это слово слишком расплывчатое, многозначное. Вот, например, почитав русские переводы «Кобзаря», полные грубых ошибок — переводчики, похоже, попросту не знали украинского языка, — я попытался переводить сам. У меня это плохо получилось: ошибок не было, но стих звучал фальшиво. Мне теперь кажется, что Шевченко вообще не переводим, но дело не в этом. Разумеется, вчитываясь в каждую его строку, я усваивал его стиль, манеру построения фраз. Это относится и к Лесе Украинке. Она сделала с украинским языком примерно то же, что Цветаева с русским. Это крайне ценно для языка, а мне было крайне полезно ее читать, хотя переводить ее я и не пытался. И вот теперь, когда, как я уже с грустью признавал, украинский язык стал мною забываться, сама его структура, чувство, вкус остаются прежними, раз и навсегда обретенными и не тускнеющими. А это сказывается на всем, что я пишу: я словно бы думаю во время работы сразу на двух языках, и это во многом определяет мой стиль. И именно поэтому я больше всех прочих украинских писателей люблю Ивана Франко.

Он тоже думал на двух языках?
Иногда мне кажется, что да. Или даже на трех, ведь он свободно владел еще и польским, некоторые его произведения написаны на польском языке. У него очень широкий диапазон тем, богатая стилистика. Он был подлинным мастером пера, читать его полезно и увлекательно. Украинский язык в его произведениях перестает быть локальным, выходит за рамки только лишь украинской культуры, ощущается как язык литературы мирового масштаба. Думаю, не случайно он переводил на украинский многих русских писателей XIX века, причем писателей очень разных. Например, Достоевского и Салтыкова-Щедрина, Помяловского и Гаршина. Любопытно, что при этом он, насколько я знаю, никогда не переводил Гоголя, хотя все названные авторы, согласно знаменитой фразе французского критика Эжена Вогюэ, «вышли из гоголевской „Шинели”». Вероятно, Франко понимал, что Гоголь — нарочно или подспудно — тоже работал одновременно с двумя языками и сводить его к одному совершенно бессмысленно.
Вам встречались читатели, которые полностью понимают ваши авторские намерения и считывают все намеки и отсылки?
Трудно сказать, ведь я же не экзаменовал никого на этот предмет. Полагаю, некоторые филологи вполне могли понять намеки и разгадать намерения. Например, на одной из первых страниц «Страха» есть такая фраза: «Был поздний ноябрь, листопад». Ее можно прочитать по-разному, так как по-украински листопад — это и есть ноябрь. Одному моему другу, знатоку славянских языков, это тотчас бросилось в глаза. Он позвонил и спросил: «Постнов, ты это нарочно?» Я был рад, что он не пропустил мою нехитрую игру словами, и ответил: «Это специально для тебя».
Насколько я знаю, вы пишете сейчас книгу о Булате Окуджаве — несколько неожиданная тема, учитывая то, о чем мы говорили выше. Как так вышло?
Несколько лет назад петербургское издательство «Лимбус Пресс» затеяло проект «Литературная матрица» — нечто вроде книг для чтения в помощь учащимся, старшеклассникам и студентам. Один из томов назывался «Советская Атлантида», там современные авторы писали об авторах советских времен, кто о ком хотел. Я выбрал Окуджаву. Но мне не объяснили формат, я написал более 80 страниц, почти брошюру, и только потом выяснил, что требуется кратенькое эссе, страниц на десять от силы. Что ж, я сочинил и эссе, но 80 страниц первоначальной работы остались не у дел. Между тем в них я описал совершенно неожиданный и поразивший меня способ, с помощью которого Окуджава обходится все с той же закулисной стороной мира, с потусторонним или непостижимым, — недаром он называл свои романы историческими фантазиями. 80 страниц можно считать началом книги, и мне захотелось ее продолжить, развить то, на что в эссе я мог только намекнуть. Я тотчас решил, что это будет не филологический труд, здесь требуется иное. Задача моей книги состоит в том, чтобы люди, знающие Окуджаву как певца и поэта, узнали его как прозаика, причем — по моим понятиям — работавшего в стиле «обогащенного» реализма. Я отказался от филологической терминологии — кажется, кроме слов «сюжет» и «персонаж», никаких специальных понятий в ней нет. А чтобы она не вклинилась между читателем и романами Булата Шалвовича (обычная судьба филологических изысканий), нужно написать ее увлекательно. Существует целый жанр, который можно определить условным заглавием «Как писать книги». Я же, хоть это, может быть, не совсем скромно, решил написать что-то вроде «Как читать книги», то есть как их читать неспециалисту. Я почти ни на кого не ссылаюсь и стремлюсь оставить читателя наедине с текстом. Поэтому в книге много цитат: ведь я не могу рассчитывать, что читатель знает прозу Окуджавы, — я пишу для тех, кто ее не знает, а комментарии к этим цитатам хоть и объемные, но понятные, легкие. Разумеется, я комментирую текст так, как сам его понимаю, однако оставляю читателю «пространство несогласия», то есть даю ему достаточно материала для формирования собственной точки зрения. Воспользуется ли он этим и если да, то в какой степени, — это уже его личный выбор.
То есть вам интереснее писать не для филологов, а для обычных читателей?
Почти что так. Филологи вообще странные люди. Один мой знакомый литературовед собрался сделать доклад на конференции о Платонове и сказал, что сейчас быстренько перечитает «Котлован», «Ювенильное море» и тогда… Каждая из этих вещей для меня могильный крест. Я их пережил как личную драму, а он их и впрямь «быстренько» перечитал и доклад сделал (кстати, очень хороший). Я не ругаю литературоведов — в конце концов, я сам литературовед, — но дело в том, что они постепенно становятся не очень восприимчивы к книге. Конечно, не все и не всегда, но часто. Это то же самое, что с врачами. Можно ли критиковать их за то, что они не так уж сильно переживают из-за болезней пациентов, коль скоро пациенты идут потоком? Что же до Окуджавы, то я хоть и не придерживаюсь филологических канонов, но питаю надежду, что и с научной точки зрения моя книга будет вполне приемлемой, но наверняка спорной.
Возвращаясь к Украине: собираетесь ли вы снова ее посетить?
Вероятно, да. У меня есть замысел романа, действие которого происходит во Львове. Когда я до этого замысла доберусь, поездка во Львов станет для меня неотменной частью работы. Кроме всего прочего, мне нужно оживить свой украинский, ведь не случайно один шведский славист назвал свою книгу об Иосифе Бродском «Язык есть Бог». И он прав — было бы слишком самонадеянно полагаться лишь на самого себя.