Постмодернизм против религиоведения
Интервью с религиоведом Алексеем Апполоновым. Часть вторая
Раз уж речь зашла о постмодернистах — недавно вышла ваша книга «Наука о религии и ее постмодернистские критики», в которой вы увлеченно и убедительно критикуете ученых, считающих религию не историческим феноменом, характерным как для современных, так и для древнейших обществ, но тем самым «конструктом», причем относительно недавно придуманным. Тут у меня два вопроса. Во-первых, действительно ли такой крайний подход приобретает сегодня широкое распространение и потому требует обстоятельного критического анализа? Во-вторых, не кажется ли вам, что понятие постмодернизма, давно ставшее всеохватывающим ругательством в неакадемическом дискурсе, в значительной степени скомпрометировано? Ведь сегодня его чаще всего используют безответственно, кто хочет и как хочет.
 Утверждать, что «крайний постмодернистский подход» особенно широко распространяется именно сейчас, я бы все-таки не стал (поскольку в последнее время я вижу, напротив, довольно мощную негативную реакцию против этого подхода со стороны, скажем так, «традиционной академической науки»). Однако он определенно уже успел широко распространиться за последние десять-двадцать лет: в противном случае этой реакции не было бы. В том числе и моя книга выглядела бы как-нибудь иначе. Как вы понимаете, глупо тратить, скажем, год своей жизни, доказывая, что «кто-то где-то неправ», если этот «кто-то» интересен только для пары-тройки его коллег.
Утверждать, что «крайний постмодернистский подход» особенно широко распространяется именно сейчас, я бы все-таки не стал (поскольку в последнее время я вижу, напротив, довольно мощную негативную реакцию против этого подхода со стороны, скажем так, «традиционной академической науки»). Однако он определенно уже успел широко распространиться за последние десять-двадцать лет: в противном случае этой реакции не было бы. В том числе и моя книга выглядела бы как-нибудь иначе. Как вы понимаете, глупо тратить, скажем, год своей жизни, доказывая, что «кто-то где-то неправ», если этот «кто-то» интересен только для пары-тройки его коллег.
Но если этот подход все еще влиятелен, то тогда, во-первых, возникают проблемы институционального характера, и весьма серьезные. У нас наука о религии (религиоведение) является официальной ВАКовской дисциплиной, которая — так уж получилось — вынуждена теперь конкурировать с некоей новосозданной ВАКовской «теологией», которая вроде бы изучает то же самое (разнообразные религиозные явления), но «иначе» (как говорят ее пропоненты — «изнутри, то есть с точки зрения своей конфессии»).
И вот некие авторы-постмодернисты (скажем, Дмитрий Узланер и Александ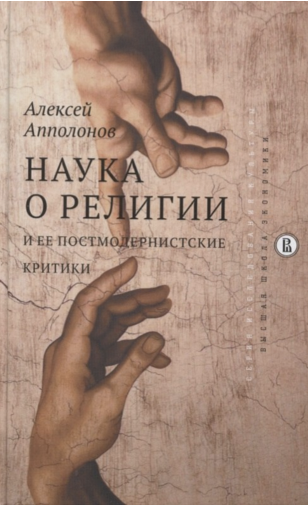 р Кырлежев) говорят: «Никакой религии не существует; ее придумал Гоббс, Локк, Гроций, Макиавелли и т. д.». Получается, что у религиоведения нет объекта, а это равнозначно, например, утверждению, что не существует объекта биологии — жизни. Но нет жизни — не должно быть биологии; и точно так же: если нет религии — не должно быть религиоведения. Дмитрий Узланер, например, утверждает, что ислам не религия. Но если так, то религиовед не должен изучать ислам. Какая же дисциплина тогда будет изучать ислам? Вероятно, теология, в защиту которой тот же Узланер написал десять тезисов.
р Кырлежев) говорят: «Никакой религии не существует; ее придумал Гоббс, Локк, Гроций, Макиавелли и т. д.». Получается, что у религиоведения нет объекта, а это равнозначно, например, утверждению, что не существует объекта биологии — жизни. Но нет жизни — не должно быть биологии; и точно так же: если нет религии — не должно быть религиоведения. Дмитрий Узланер, например, утверждает, что ислам не религия. Но если так, то религиовед не должен изучать ислам. Какая же дисциплина тогда будет изучать ислам? Вероятно, теология, в защиту которой тот же Узланер написал десять тезисов.
И если дело пойдет так дальше, то с институциональной точки зрения надо закрывать все кафедры и отделения религиоведения в стране и передавать их, кому? Ну, вероятно, теологам — не биологам же. Таким образом произойдет — причем в достаточно жесткой форме — клерикализация образования с весьма прискорбными последствиями для нашей страны.
Не так давно была издана книга «Православное религиоведение»; так вот, там есть такие слова (цитата из св. Иоанна Кронштадского): «Нечестивые не узрят Славы Твоея, Христе, т. е. неверующие, непрививающиеся, католики злые, лютеране-богохульники и реформисты, евреи, магометане, все буддисты, все язычники» (Максимов Ю., Смоляр К. «Православное религиоведение. Ислам, Буддизм, Иудаизм». М.: 2008, с. 248). Представляете, что будет, если об этом начнут открыто говорить с университетских кафедр? А ведь это и есть теологическое «исследование» религий «изнутри» одной традиции — сообразно тому, как эта традиция видит их, опираясь на свое собственное учение.
Во-вторых, есть юридически-правовой аспект. В настоящее время «Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование <…> 3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения на срок до десяти лет; 4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения прав на указанные здания, сооружения» (СТ 39.10 ЗК РФ).
Но если ислам не религия, как утверждает Дмитрий Узланер, — значит, мусульманские организации будут вынуждены передать свое недвижимое имущество государству и перерегистрироваться (уж даже не знаю в какую форму). Представляете, к какому хаосу это может привести в масштабах государства и как может возрасти межнациональное и межконфессиональное напряжение в нашей стране?
Наконец, пару слов о науке в целом. Академик И. Т. Касавин в своем интервью, озаглавленном «Мы создали что-то вроде маленькой альтернативной истории мысли…», полагает, что «можно… допустить, что весь наш мир — это большая лаборатория, которая была запущена какими-нибудь очень влиятельными пришельцами». Если это воспринимать как научную гипотезу, тем более высказанную академиком РАН, то она должна быть подвергнута эмпирической проверке: надо создать какой-нибудь «Институт контакта», провести пару-тройку конгрессов уфологов на государственном уровне, учредить постоянные экспедиции в местах, где регулярно наблюдаются «тарелочки» и т. д. Однако понятно, что никто этого делать не будет, и сам академик И. Т. Касавин на это вовсе не рассчитывает. Это просто такая лукавая постмодернистская полушутка-полуирония в рамках «альтернативной теории мысли»: смотрите, мол, даже такое может выглядеть как наука, а уж другая моя «альтернативка» — тем более.
Но что это значит в масштабах науки? Это значит, что нормальные научные процедуры, да и сама наука как институт, объявляются если не окончательно устаревшими, то по крайней мере чем-то таким, «чему возможна альтернатива» в виде «знания за пределами науки», о котором неоднократно писал Касавин. Да, действительно, в конце своего интервью он вроде бы даже сожалеет о том, что теперь псевдонаука и прочая «альтернативная мысль» (назову ее условно «постмодернистской» — постольку, поскольку она игнорирует методы и процедуры «модернистской» академической науки) распространилась очень широко. Однако из этого следуют две вещи. Во-первых, я в своей книге поставил верный диагноз современному состоянию умов — в своей области и смежных с нею. Во-вторых, ученые или люди, считающие себя учеными, должны помнить о том, что они не играют в игры и не упражняются в остроумии на манер участников рэп-баттлов, а занимаются серьезными вещами, которые могут иметь серьезные общественно-политические, правовые и иные последствия.
В связи с этим я хотел бы сказать еще одну вещь. Оппоненты часто обвиняют меня в том, что я, говоря о существовании такого феномена, как религия во всех известных нам культурах, дескать, утверждаю, что религия во все времена везде была одна и та же и всеми людьми всегда воспринималась одинаково. Это либо непонимание, либо намеренное искажение моей мысли. Я пишу в книге: «В конечном счете когда-то очень давно в целостности первобытного синкретизма соединялись все области духовной культуры — религия, политика, экономика, право, наука, техника, искусство и т. д. Лишь по мере развития и усложнения человеческого общества эти области начинали (само)осознаваться как различные и разводиться по разным категориям. И, конечно, в определенном смысле они неоднократно „изобретались” учеными, философами, теологами, юристами, политическими и религиозными деятелями, писателями и т. д. — в этом нет ничего удивительного, поскольку человечество не просто объект, но еще и субъект своей эволюции».
Как видите, я отнюдь не отрицаю «социальное конструирование» в духе Дюркгейма, но категорически отрицаю то постмодернистское «конструирование», которое совершенно безосновательно провозглашает, что религия была «сконструирована» — к тому же раз и навсегда — современными протестантскими теологами, философами или религиоведами.
Отвечу теперь на второй ваш вопрос. Об использовании термина «постмодернизм» за пределами науки я мало что знаю, и, честно говоря, судьба постмодернизма и постмодернистов, например, в литературе меня мало заботит. Что же касается науки, то здесь я бы сказал следующее. Да, я заметил, что с определенного момента термин «постмодернизм» стал, скажем так, немоден. Стало больше здоровой критики, в связи с чем постмодернисты стали мимикрировать под какие-то другие модные направления — но они никуда не исчезли. Кроме того, значительная часть постмодернистов никогда не называла (и не считала) себя постмодернистами. Например, Михаил Бахтин был чистой воды постмодернистом (можно даже сказать, отцом-теоретиком постмодернизма), однако только теперь (и то довольно осторожно) литературоведы и историки начинают говорить на эту тему.
Тем не менее вы правы в том, что термин «постмодернизм» используется сейчас очень нестрого. Не существует более или менее целостной научной теории постмодернизма. Мне, например, уже указывали на то, что я в своей книге дал слишком общее определение постмодернизма и что у меня это слово выглядит как своего рода ругательство, которым я награждаю тех, с кем не согласен.
Поэтому, пользуясь случаем, я сделаю несколько замечаний на эту животрепещущую тему. Давайте разберемся для начала, чем постмодернизм в гуманитарных науках отличается от обычной псевдонауки (лженауки). Псевдонаука находится где-то на границе между научным знанием и ненаучной картиной мира. Она обычно не отрицает традиционную академическую науку, ее базовые процедуры и принципы; она претендует на совместный с наукой поиск истины о человеке и мире; более того, она как правило сама не прочь обрести научный статус. Бывает даже так, что в рамках псевдонауки рождаются новые подлинно научные теории, которые со временем получают научное признание. И наоборот: из-за ригидности, свойственной научному сообществу (см. у Дюркгейма о «нормах, навязываемых группой»), случается, что некоторые научные теории объявляются лженаучными и обретают научный статус лишь по прошествии определенного времени.
С постмодернизмом все совершенно иначе. По своей сути он не наука и даже не псевдонаука. В лучшем случае постмодернизм — философия и методология науки, а в худшем — просто некое неопределенное, нестрогое и непродуманное мировоззрение, основанное на «личном опыте» (в этом смысле известный всему рунету школьник Максим Ожерельев, отрицающий шарообразность земли на основании «личного опыта подпрыгивания», является типичным носителем постмодернистского сознания). Как методология постмодернизм начинает с тотальной социологизации научной истины: никакой истины нет вообще — есть только набор верований, который считает истиной определенная группа людей («нет „правильного” мнения и „ложного” мнения; есть „мое” мнение и „твое” мнение»). Соответственно, официальная наука объявляется «большим нарративом» (хотя само это слово может не употребляться), то есть чисто социальным конструктом, который был создан (вернее, сочинен — так, как писатели пишут рассказы) некими людьми с корыстными целями (обычно — ради обретения власти). Процесс выявления банды заговорщиков называется «деконструкцией». Аргументы представителей этой банды не рассматриваются в принципе — ведь «они нам врут». Все предлагаемые официальной наукой нормативные исследовательские процедуры отрицаются по той же причине. Как суммирует этот подход один из наиболее известных наших постмодернистов Александр Дугин: «Ученый! Это он Вольтера начитался, наверное <…> науки придумали прямые предки глобалистов. Пол Фейерабенд убедительно доказал, что просветители — и особенно Галилео Галилей — все свои опыты подделали. Наука основана на пиаре, внушении и подделках».
Итак, вот две отличительные черты постмодернизма, которые я хотел бы выделить для того, чтобы провести демаркацию между ним и наукой (и псевдонаукой): 1) тотальная социологизация знания и истины и 2) полное и последовательное отрицание права науки (или отдельной научной дисциплины как в случае с религиоведением) утверждать, что она может обладать более адекватным знанием об окружающей нас реальности, чем какая-либо иная система идей или какое-либо иное мировоззрение, будь то мифология древних шумеров, магические практики розенкрейцеров, литературные опусы последователей Блаватской, уфология, искусство наведения порчи и т. д.
Вполне естественно, что при таких обстоятельствах постмодернизм, в отличие от псевдонауки, отнюдь не стремится к научному статусу (хотя в отдельных случаях постмодернисты и могут говорить о себе как об ученых). Постмодернизм — это антинаучная философия, целью которой является борьба с научным знанием и любого рода рационализмом под лозунгами «плюрализма», «равенства мнений», «защиты меньшинств», «приоритета личного опыта» и т. д. Вот типичный пример антинаучного постмодернистского кредо: «Науку всегда использовали для узаконивания расизма, сексизма, классового неравенства, трансфобии, эйблизма и гомофобии: неравенство объявлялось объективной данностью и поддерживалось правительством и государством». Из этого делается предсказуемый вывод, что уж если на науке лежит такой родовой грех, то она не должна препятствовать проникновению других практик и мировоззрений туда, куда они ранее не допускались «на научной основе» (например, в университеты). И вот в Южной Африке прогрессивные студенческие движения #ScienceMustFall («наука должна быть повержена») и #DecolonizeScience («деколонизируй науку») объявили, что наука лишь один из методов познания, навязанный людям. В качестве альтернативы они предложили «магические практики». В итоге, как справедливо отмечает Хелен Плакроуз, постмодернизм «угрожает вновь отбросить нас в эпоху, предшествовавшую Просвещению, когда „разум” не просто ставили ниже веры, но считали греховным».
Это всего лишь краткий набросок, так сказать, «теории и практики» постмодернизма. Если у меня будет время и возможность, я постараюсь внести большую ясность в вопрос о том, что представляет из себя это мировоззрение.
Вы занимаетесь схоластической философией, многое перевели и издали — в чем заключается лично ваш интерес к этой теме и для чего, на ваш взгляд, нужно заниматься ею сегодня? Это сугубо научно-историческое увлечение или в нем есть для вас какой-то экзистенциальный смысл?
Действительно, я много занимался переводами схоластических текстов. Когда-то давно работа над переводом «Суммы теологии» Фомы Аквинского носила для меня некий экзистенциальный характер. Дело в том, что, когда я изучал философию в 1990-е, мои российские учителя представляли западный неотомизм как живую и развивающуюся традицию. Я был потрясен глубиной и красотой этой традиции — и сам в некотором смысле стал ощущать себя томистом. Когда же я переехал в Германию в 2000-е, я быстро понял, что томизм во всем мире мало кому интересен. В лучшем случае я обнаруживал историков, таких как Лео Элдерс, в худшем — мне говорили, что томистская традиция умерла еще на Втором Ватиканском соборе. Даже Католическая церковь была безразлична к томизму (например, когда я вернулся в Россию, меня не взяли на работу в Колледж католической теологии святого Фомы Аквинского в Москве — да и вообще скоро выяснилось, что это колледж не св. Фомы Аквинского, а просто св. Фомы — которого именно, непонятно).
Поэтому, поступив на работу в МГУ, я резко сменил область интересов: стал изучать этнографию, социологию, экономику и историю науки, сделал несколько переводов экономических и социологических работ для издательств Валерия Анашвили (за эту возможность я бесконечно ему благодарен). Так что да, в настоящее время схоластика для меня «научно-историческое увлечение» (и заодно своего рода клеймо, от которого мне уже, наверное, никогда не избавиться).
Тем не менее из этого отнюдь не следует, что схоластическая (или, например, античная) философско-теологическая мысль совершенно неактуальна. Несмотря ни на что, студенты (а тем более ученые), занимающиеся философией, религиоведением, теологией, культурологией и т. д., должны знать эту мысль. Возможно, они должны знать ее не очень глубоко, не в полном объеме, но в том или ином виде она им нужна. Современный физик может не знать физику Аристотеля: слишком далеко современная физика ушла от своих истоков. Но если прошлого не будет знать современный теолог или религиовед, то он — по причине незнания традиции — будет заниматься изобретением велосипеда: заново воспроизводить уже сказанное и установленное, причем наверняка плохо и со множеством ошибок.
Язык схоластики, насколько я могу судить, очень сложный и формализованный, а среди средневековых авторов хватает мистиков, которые едва ли пишут намного проще, но наверняка гораздо художественнее, — почему вы не обращались к их трудам?
Средневековые мистики ввергают меня в ужас, и я преклоняюсь перед теми, кто переводит их на современные языки. Дело здесь вот в чем. Известно, что апостол был «восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12:4). Вот и христианские мистики пытались добиться сходных состояний, а потом их описать. То есть выразить неизъяснимое и передать непередаваемое, причем зачастую для узкого круга посвященных, которые только и могли понять все глубинные смыслы, вложенные в текст автором-мистиком. Схоластика со своей стороны пыталась создать сильно формализованный (почти искусственный) язык интерсубъективного научного дискурса (да еще и с дидактической ориентацией: та же «Сумма теологии» Фомы Аквинского это, в общем-то, учебное пособие). Поэтому схоластика на самом деле довольно проста, если привыкнуть к специфической манере изложения мыслей.
А как обстоят дела с переводом «Суммы теологии», продолжаете ли вы заниматься этим проектом? Сколько томов уже вышло и когда стоит (и стоит ли) ждать следующие?
До конца года должен выйти очередной том перевода «Суммы теологии» Фомы Аквинского (шестой по счету; после него будет еще три). Мне удалось привлечь для работы двух замечательных молодых специалистов — Софью Игоревну Порфирьеву и Андрея Андреевича Сочилина, — и теперь, надо думать, дело с переводом «Суммы» пойдет значительно быстрее.