Кто же в Будапеште не знает о Яноше Корнаи?
— Давайте для начала отдадим дань памяти Яношу Корнаи, который совсем недавно скончался в возрасте 93 лет. Для российских экономистов его книга «Дефицит» в свое время стала важнейшим ключом для понимания природы социалистической системы, и сейчас Корнаи по-прежнему часто цитируют — после его смерти в российских СМИ и социальных сетях вышло несколько больших некрологов. Какова судьба наследия Корнаи в Венгрии? Воспринимается ли он сейчас как актуальный автор?
 Янош Корнаи, 2005.
Янош Корнаи, 2005.
Фото: Szabó Katalin / kornai.com
Петер Михайи: О значимости Корнаи можно судить хотя бы по тому, что на его похороны в Будапеште пришла огромная толпа людей, были зачитаны некрологи от Академии наук Венгрии, Корнеллского и Гарвардского университетов и других организаций. Если в двух словах, то Корнаи — очень известная в Венгрии фигура, причем далеко за пределами круга экономистов. Просто остановите наугад нескольких человек на улице в центре Будапешта и спросите: знаете ли вы, кто такой Янош Корнаи? Думаю, что в том районе, где живет Иван, четверо из десяти ответят утвердительно.
Сам я знал Яноша с детства благодаря моим родителям. Когда мне было 17 лет, я раздумывал над тем, не пойти ли учиться на экономиста, и тогда Янош дал мне книгу «Экономика» Пола Самуэльсона. В дальнейшем Корнаи не раз помогал мне в профессиональной карьере личными советами и формальными рекомендациями. Когда я был еще молодым ученым, я участвовал в сборе данных и информации для нескольких книг, которые вышли из-под пера Корнаи. Мы поддерживали дружеские отношения до самых последних дней его жизни.
Янош действительно прожил очень долгую жизнь — его интеллектуальная деятельность продолжалась больше шестидесяти лет. В то же время надо признать, что молодое поколение венгерских экономистов незнакомо с его работами глубоко. Конечно, они знают его имя, читали некоторые статьи, представляют себе основные идеи, но, как правило, не читали книг Корнаи, многие из которых вышли еще в социалистический период.
— Это потому, что молодые экономисты не успели на собственном опыте познакомиться с дефицитом и прочими «прелестями» социалистической экономики?
ПМ: Конечно, все знают, что при социализме был дефицит, а тем, кто его сам не застал, о нем рассказывали родители. Но дело не только в эмпирических реалиях. За последние десятилетия произошло значительное изменение исследовательской культуры. Молодые экономисты зачастую пишут статьи, но не берутся писать книги — и не читают их.
Иван Селеньи: Янош не был экономистом-реформатором в том смысле, какой вкладывается в это выражение, например, в России. В юности он вообще не получил формального экономического образования, хотя с 1947 года писал об экономике для ведущих коммунистических газет. К 1953 году у него не осталось иллюзий насчет коммунизма — тогда он порвал с ним и начал сам глубоко изучать экономику. Первая его книга, «Чрезмерная централизация экономического управления», вышла уже в 1957 году. Но ни она, ни многие последующие не были типичными работами на тему реформирования экономики — в них всегда преобладала исследовательская составляющая.
Конечно, при желании из книг Корнаи можно вычитать подразумеваемые предложения касательно реформ. Из той же работы о сверхцентрализации экономики некоторые действительно сделали вывод, что он предлагает противоположный рецепт — децентрализацию. Или, когда он писал о чрезмерных инвестициях в тяжелую промышленность, делался вывод, что этого следует избегать. Но прямым текстом Корнаи нигде об этом не говорил. Обычно он брал какой-то один аспект экономики, исследовал его, но воздерживался от прямых политических рекомендаций. Все это, безусловно, верно и применительно к «Дефициту» — его главной книге, которая вышла в 1980 году. Это прежде всего исследование, суть которого граничит с идеей о том, что коммунистическую экономику невозможно сохранить. Но только в работах, опубликованных позже, уже в 1990-х годах, Корнаи постулировал, что экономика не в состоянии функционировать без частной собственности и рынков.
— Иван, а вам довелось поработать вместе с Корнаи?
ИС: Нет, хотя мы были знакомы лично. Наша первая встреча состоялась в 1972 году, вскоре после того, как мы вместе с моим коллегой Дьёрдем Конрадом, впоследствии известным писателем, опубликовали очень критическую работу об урбанизации в Венгрии, она называлась «О социологических проблемах новостроек». Я никогда не был марксистом...
— Такое было возможно в социалистической Венгрии?
ИС: Только в самой первой моей статье, в 1963 году, я цитировал Маркса, но больше ни в одном моем тексте социалистического периода ссылок на него вы не найдете.
Так вот, в нашей с Конрадом работе мы все-таки использовали марксистскую терминологию, когда писали об эксплуатации при коммунизме, и считали, что произведем сенсацию. Когда этот текст увидел Корнаи, он пригласил нас к себе и очень критически высказался о том, как мы используем марксистские понятия «эксплуатация» и «класс» применительно к социализму. Он так и сказал: это глупо, это мертвая идея, забудьте о ней.
Уже после того, как социализм остался в прошлом, Корнаи был приглашен в Гарвард, хотя там он никогда не был штатным профессором — ему было важно половину года проводить в Венгрии, так что на семестр он уезжал в Америку, а остальную часть года проводил дома. Как раз в этот период мы очень близко общались. Всякий раз по приезде в США он звонил мне, навещал меня в Лос-Анджелесе, а я бывал у него в Гарварде. Но так уж получилось, что вместе мы ничего не написали.
Что такое посткоммунистический капитализм
— Разговор о ваших собственных книгах хотелось бы начать с вашей последней работы «Разновидности посткоммунистического капитализма». Какое определение вы даете этому понятию? Насколько оно актуально сейчас, когда социализма в его советской разновидности нет уже более трех десятилетий? Насколько значительную зависимость от пройденного пути он сформировал для траекторий дальнейшего развития стран, которые называли себя социалистическими?
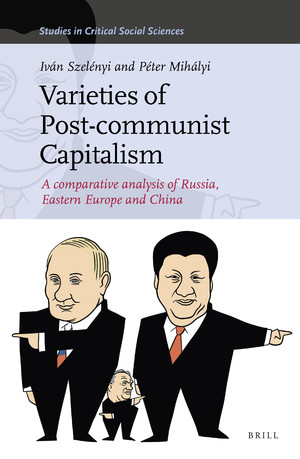 ПМ: Действительно, многие полагают, будто коммунизм кончился более тридцати лет назад, но в действительности мы видим убедительные признаки того, что он не завершен. Первый и наиболее важный пример — Китай. Здесь нам придется снова обратиться к Корнаи, который в последние месяцы жизни, собрав остатки сил, писал именно о КНР. Если в двух словах, основная его идея заключалась в том, что современный Китай по сути представляет собой именно коммунистическую систему.
ПМ: Действительно, многие полагают, будто коммунизм кончился более тридцати лет назад, но в действительности мы видим убедительные признаки того, что он не завершен. Первый и наиболее важный пример — Китай. Здесь нам придется снова обратиться к Корнаи, который в последние месяцы жизни, собрав остатки сил, писал именно о КНР. Если в двух словах, основная его идея заключалась в том, что современный Китай по сути представляет собой именно коммунистическую систему.
Методологически очень важно принимать любую систему всерьез. Например, если Гитлер объявлял себя фашистом — мы должны относиться к этому серьезно. Если китайский режим сегодня по-прежнему называет себя коммунистическим, у нас нет оснований не принимать это в расчет. То же самое относится к шиитской исламской республике в Иране. Кроме того, сегодняшний Китай — это успешная страна, выступающая образцом для многих других государств. У КНР есть страны-сателлиты, такие как Вьетнам, Камбоджа, Лаос и другие, которые тоже вполне можно считать социалистическими или коммунистическими. Куба, Никарагуа, Венесуэла — тоже современные социалистические страны.
В нашей книге описываются три типа посткоммунистических систем. Китайская — лишь одна из них, она социалистическая. Вторая система — российская при Путине, отчетливо капиталистическая. Третья — венгерская, которая расположена посередине: в силу практических соображений она сформировала очень тесные отношения и с Китаем, и с Россией, хотя нельзя утверждать, что нынешний венгерский премьер-министр Виктор Орбан копирует Си Цзиньпина или Путина.
Иными словами, посткоммунизм — это аналитическая категория...
— Идеальный тип по Веберу?
ПМ: Думаю, несколько проще. Если в той или иной стране коммунисты не так давно находились у власти, сегодня ее можно считать посткоммунистической. Но само это понятие многогранно, и посткоммунизм действительно оказывается феноменом зависимости от пройденного пути. В книге перечислены порядка 50 стран, которые можно назвать посткоммунистическими по тем или иным критериям.
— Еще в книге Ивана Селеньи «Построение капитализма без капиталистов» (1998) говорилось о трех вариантах посткоммунистического развития: «капитализм сверху» (например, Россия), «капитализм снизу» (Китай) и «капитализм извне» (Венгрия). Можно ли считать вашу новую работу переосмыслением этой концепции?
ИС: Да, мы использовали эти идеи в новой книге. Венгрия в 1990-х годах была типичной страной капитализма извне, то есть она импортировала капитал в виде прямых иностранных инвестиций, будучи первой среди бывших социалистических стран по их объему. Затем таким же путем привлечения внешних инвестиций пошли такие страны, как Румыния и Болгария — для России и Китая такая траектория была характерна в гораздо меньшей степени.
Ответ на вопрос, каким путем происходил переход от коммунизма к капитализму, действительно очень важен. Но не менее важно, что именно сохранилось от коммунизма в тех странах, которые мы называем посткоммунистическими. Корнаи определял коммунизм как государственную собственность на средства производства при отсутствии рыночной координации и доминировании одной партии. Если применить эти критерии к посткоммунистическим странам, мы обнаружим, что в них по-прежнему присутствуют элементы коммунизма.
Если оставить в стороне такие страны, как Китай, Северная Корея и Вьетнам, где по-прежнему существует однопартийная система, легко заметить, что в ряде посткоммунистических государств могла быть устранена монополия на власть одной партии, но сохранилась система однопартийного доминирования, и это напоминает способы управления в коммунистических странах. Хорошие примеры — Венгрия при Орбане и Россия при Путине. Помните, когда Путин пришел к власти, он пытался представлять себя в качестве либерала? Но теперь и он, и Орбан заявляют о своем антилиберализме. Эти высказывания тоже надо воспринимать всерьез.
Кроме того, для коммунизма характерен приоритет коллективных интересов над индивидуальными — эта особенность также сохраняется в посткоммунистических странах. В небольших и преимущественно мононациональных странах вроде Венгрии или Польши такая коллективность формулируется в этнических терминах, причем она распространяется и на тех, кто живет за пределами страны — например, венгры, живущие вне Венгрии, тоже объявляются принадлежащими к венгерской нации. Еще первый посткоммунистический премьер Венгрии Йожеф Анттал заявлял, что является премьер-министром 15 миллионов венгров, имея в виду всех венгроговорящих. Такая вот любопытная концепция, восходящая к немецкой идее культурной нации (XVIII–XIX вв.). Правда, у немцев она была сопряжена с отсутствием единого немецкого государства при наличии германоязычных сообществ в самых разных странах Европы. Для нынешнего же премьера Венгрии Орбана коллективные интересы этнически гомогенной нации стоят выше интересов отдельных индивидов — вот один из примеров того, как коммунизм правит после коммунизма.
Таким образом, понятие «посткоммунизм» указывает на уникальный тип правления, когда коллективность ставится выше индивидуальности, являющейся сутью либерализма, первоочередной ценностью которого выступает индивидуальная свобода. В посткоммунистических странах этот момент, как правило, отрицается, хотя корни у этого еще глубже, раз уж мы заговорили о зависимости от пройденного пути. Польша, Венгрия и другие восточноевропейские страны не были полностью либерально-капиталистическими и до социализма. В них элементы либерализма и капитализма сочетались с сильными феодальными элементами — личной зависимостью граждан от правителей и не вполне капиталистической экономикой. В Венгрии, например, сельскохозяйственная собственность до социализма была вполне феодальной, а власть правителей обосновывалась патерналистскими мотивами.
ПМ: Есть еще одна особенность венгерской разновидности посткоммунизма. Иван упомянул о том, как власти Венгрии оперируют «15 миллионами венгров», — проблема в том, что никакого отношения к действительности эта цифра не имеет. Многочисленные демографические исследования с целью оценить количество венгров, живущих за пределами Венгрии, показали, что в общей сложности насчитывается максимум 13 миллионов человек. Но политиков это не заботит — они предпочитают округлять эту цифру до более внушительных 15 миллионов. Так и рождаются фейковые новости, причем у нас это происходило еще тогда, когда термин fake news никто не использовал. Факты не имеют значения. Премьер-министр Венгрии и его партия регулярно делают некорректные заявления, но этому не противостоит никакая сила, и в итоге опора на фейковые новости становится характеристикой всей системы, где лидеры постоянно сообщают неверную информацию гражданам.
— В чем, по вашему мнению, специфика российского посткоммунизма? Можно ли утверждать, что у России и здесь свой уникальный путь, который мы так любим искать?
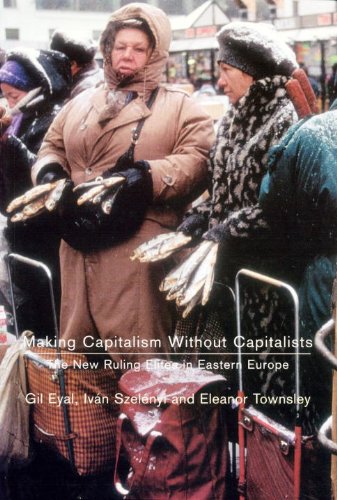
ПМ: Во многом Россия не уникальна, но, в отличие от практически всех стран Центральной и Восточной Европы, она богата природными ресурсами, и это, кстати, определило совершенно иное отношение России к прямым иностранным инвестициям, нежели в странах, лишенных таких ресурсов. Второе важное отличие — размер территории. Россия — сверхдержава, к числу которых не относится подавляющее большинство посткоммунистических государств. В этом смысле Россия в посткоммунистическом мире уникальна — такого сочетания размера и ресурсной базы у других стран этой группы нет.
ИС: Россия остается крупной империей. Если в небольших посткоммунистических странах приоритет коллективных интересов легко приобретает этнический характер, то в России это в первую очередь делается во имя многонациональной империи. Думаю, это во многом и определяет действия Путина: он по-прежнему разочарован крушением Советского Союза, и иногда кажется, что его мечта — воссоздать великую российскую империю.
— Не кажется ли вам, что посткоммунизм представляет собой разновидность такого явления, как политический капитализм, которое все больше характерно для современного состояния капитализма в целом? Возьмем для примера Турцию, которая никогда не была социалистической страной, но по сути ее экономика организована так же, как и в ряде посткоммунистических государств: все командные высоты приватизированы родственниками и друзьями Эрдогана, а в политике при формальной многопартийности доминирует одна партия.
ПМ: В нашем исследовании мы не обращались к Турции подробно, но я попробую сформулировать пару соображений. Думаю, здесь нужно вводить несколько иную систему координат — скорее из области политической антропологии. В одной из наших недавних статей мы выявили шесть типов доминирования, и согласно этой классификации турецкая система (как и ряд посткоммунистических стран, включая Россию, Китай и отчасти Венгрию) оказывается в числе диктатур — этот термин необходимо понимать прежде всего в аналитическом смысле. Диктатура — не худший тип доминирования, поскольку есть еще деспотизм как в Туркменистане или в некоторых африканских странах. Турция при Эрдогане представляет собой некий пограничный вариант между диктатурой и деспотизмом.
Но точки пересечения с посткоммунистическими странами действительно прослеживаются. Партия власти в Венгрии имеет очень протурецкую идентичность: недавно в Будапеште проходила международная конференция Тюркского совета, в который входят Турция, ряд бывших советских республик и — как ни странно — Венгрия. Хотя совершенно очевидно, что этот сюжет тоже из области фейковых новостей. Какие же мы турки? Мы финно-угорский народ, все наши связи с тюркским миром сугубо воображаемые, но они преподносятся венграм как некая реальность.
«Русский в Венгрии был нефункционален»
— Кстати, как сегодня в Венгрии развиваются экономические и социологические исследования на венгерском языке, учитывая то, что мейнстрим этой науки англоязычный? Много ли переводится на венгерский актуальных книг, или же считается, что экономисты и социологи должны читать и писать на английском?
ПМ: На самом деле никакой проблемы нет. Работы по социологии и экономике на венгерском все время выходят — как и переводы. Действительно, некоторые ученые не очень охотно пишут по-венгерски, но это больше касается экономистов. Многие венгерские экономисты используют массу английских терминов, но это совершенно нормально. А среди социологов лишь единицы пишут преимущественно по-английски, и Иван — один из них.
ИС: Да, я написал примерно 80 процентов своих работ на английском. Так можно получить больше откликов, а также больше шансов, что книги переведут на другие языки. Так было, например, с книгой «Построение капитализма без капиталистов», написанной совместно Гилом Эялом и Элеонор Таунсли. По-русски она, кстати, вышла на Украине.
— Когда вы были в России полтора десятилетия назад в рамках проекта «Русские чтения», вы рассказывали, что пытались читать по-русски нашу классику, но получилось не очень. Можете немного поподробнее рассказать о вашем опыте знакомства с русским языком?
ПМ: Впервые я посетил Россию в 1969 году, будучи еще аспирантом, и провел в Москве месяц — тогда я действительно говорил по-русски, даже мог переводить с русского на венгерский и наоборот. Затем я побывал в России в 1998 году, когда занимался исследованием бедности. Это были плохие времена, ситуация в Москве была очень беспокойной. Я видел, как офицеры в военной форме просят милостыню, — невероятная картина. Думаю, это была низшая точка экономического кризиса в России. Но когда я снова приехал в Москву через несколько лет, это был совсем другой город — все сияло, магазины ломились от товаров, у людей появились деньги. Правда, мне сказали, что Москва — это не Россия, но в любом случае контраст меня впечатлил.
Мне очень нравится русский язык. Но главная проблема еще в социалистические годы заключалась в том, что русский в Венгрии был нефункционален. У нас почти не было туристов из Советского Союза, да и мы не могли ездить в СССР как туристы самостоятельно — только в группах. Музыку мы тогда слушали преимущественно на английском, советские фильмы, которые у нас показывали, были, как правило, скучны, а смысла читать советские газеты совершенно не было. В общем, русский для меня в какой-то момент оказался чем-то вроде латыни, хотя долгое время я и правда читал русскую литературу почти каждый вечер — обзавелся двуязычными книгами, на русском и английском. Но с ними была еще одна проблема: в Венгрии нас учили русскому языку газеты «Правда», а язык Толстого и Достоевского, как вы понимаете, совершенно другой.
ПМ: А я всегда с большим трудом понимал разговорный русский — это совершенно не тот язык, который я учил, хотя читаю на русском вполне свободно. Со мной случилась одна любопытная вещь несколько лет назад в Казахстане: на одном научном мероприятии в докладах студентов я услышал как раз таки бюрократический язык «Правды». Представляете, как я обрадовался? Я понимал почти все!
 Москва, 1998.
Москва, 1998.
Источник
— Не так давно среди номинантов на Нобелевскую премию по литературе был замечательный венгерский писатель Ласло Краснохаркаи, которого уже неплохо знают в России (а фильм Белы Тарра «Сатанинское танго» по его книге давно стал культовым среди интеллектуалов). К сожалению, вместо Краснохаркаи премию получил автор из Танзании — решение, не слишком, на мой взгляд, обоснованное. Насколько силен в современном мире интерес к венгерскому языку, венгерской литературе и венгерской культуре? Можно ли говорить об определенном дефиците достижений в связи с этой нобелевской историей?
ПМ: В 2002 году венгерский писатель Имре Кертес уже был награжден Нобелевской премией, а два лауреата за столетие для Венгрии — это, наверное, многовато. Во всяком случае, пока сложно рассчитывать, что ее получит кто-то еще, но это не отменяет того факта, что современные венгерские писатели — Краснахоркаи, Петер Эстерхази и другие — весьма известны за пределами Венгрии. Я хорошо знаком с одной переводчицей венгерских авторов на польский — с полькой, живущая в Венгрии, она перевела уже около двух десятков романов. Другое значительное измерение современной венгерской культуры — это, конечно, кинематограф. Здесь точно никакого дефицита достижений нет, если судить по многочисленным призам на международных фестивалях за последние десять лет. Для небольшой страны это большой успех, хотя времена, конечно, меняются: еще сравнительно недавно в мире был гораздо более известен венгерский театр.
О чем забыл Тома Пикетти
— В первой части нашей беседы мы говорили о посткоммунистических вариантах капитализма — давайте теперь обратимся собственно к капитализму. Какова ваша версия ответа на вопрос, есть ли будущее у капитализма? В свое время Иммануил Валлерстайн, Майкл Манн, Рэндалл Коллинз, Георгий Дерлугьян и Крейг Калхун задали определенную традицию в своем одноименном сборнике, поэтому я с тех пор задаю этот вопрос всем экономистам и социологам, у которых беру интервью.
ИС: На такие вопросы я обычно отвечаю так: я пытаюсь понять настоящее, а не предсказать будущее. Пусть будущее капитализма принадлежит политикам. Если говорить о посткоммунистических странах — нашей задачей было описать то наследие коммунизма и даже предшествующих периодов, которое важно для их настоящего. Для его преодоления действительно потребуется очень много времени. Как говорил Ральф Дарендорф, если вы хотите изменить политическую систему, вам хватит шесть месяцев, если вы хотите изменить экономическую систему, потребуется шесть лет, но, если вы хотите изменить природу общества, на это уйдет шесть десятилетий.
К тому же нужно учитывать характер текущих трансформаций, которые тоже создают зависимость от пройденного пути. Например, в Венгрии сейчас мы видим, что власть глубоко погружает людей в свою доктрину. Те, кому сейчас двадцать лет, пошли в школу, когда у власти находился Орбан, а совсем недавно он представил план развития страны на десять лет вперед, дав понять, что все это время будет находиться у власти — хотя в следующем году ему еще нужно выиграть выборы. В результате люди начинают думать, что так, как есть сейчас, будет всегда. Кроме того, легитимность власти в Венгрии приобретает религиозный оттенок. Все больше и больше молодежи посещают религиозные школы, да и в обычных школах стало много религии.
ПМ: Интересно наблюдать, как это делается технически. Все привязано к системе финансирования школ и местных властей. Центральное правительство говорит муниципалитетам: мы не даем вам денег на школы, но если вы договоритесь с Католической церковью, или с иудейскими, или с греко-католическими общинами, то ваша школа будет относиться к другой категории финансирования, и подушевая поддержка учеников будет удвоена. Это, кстати, подразумевает в том числе улучшение оплаты труда учителей. Муниципалитеты склонны соглашаться на такие сделки, поскольку у них нет возможности получить дополнительные доходы — на практике центральное правительство изымает даже те, которые есть.
Вот всего один недавний пример: примерно год назад правительство объявило, что, так как коронавирус очень серьезно ударил по экономике, местный налог, который зачитывается муниципалитетам, будет уменьшен вдвое. Еще одна фейковая новость, поскольку все это преподносилось под тем соусом, что мы, мол, помогаем предпринимателям. В действительности же это делалось для того, чтобы ослабить позиции муниципалитетов, поскольку на последних муниципальных выборах в Будапеште и некоторых других городах победила оппозиция. Согласно последним опросам, у оппозиции и сейчас есть все шансы выиграть муниципальные выборы.
— Давайте подойдем к теме капитализма и его будущего со стороны вашей книги «Получатели ренты», недавно вышедшей в России. В ней вы активно полемизируете с Тома Пикетти, утверждая, что его подход к анализу топовой группы по доходам не вполне верен — вместо 1% высшего класса вы предлагаете рассматривать 15–20% верхнего среднего класса. Как вы установили, что анализ Пикетти некорректен?
ПМ: Отвечу на ваш вопрос как экономист, а Иван, думаю, добавит как социолог. Начну издалека. Иван был моим профессором, когда я учился в университете, так что мы знакомы несколько десятилетий, все это время много общались, переписывались, но очень долго ничего не писали вместе. И вот, когда Иван вернулся в Венгрию из Америки, оказалось, что есть тема, которая заинтересовала нас обоих одновременно — это была именно книга Пикетти «Капитал в XXI веке», мы даже вместе побывали на ее презентации в Будапеште. Поэтому наша самая первая совместная работа, опубликованная в Кембриджском экономическом журнале в 2017 году, посвящена именно ей.
Мы действительно нашли в концепции Пикетти массу проблемных моментов. Основной его аргумент очень прост: можно объяснить специфику современного капитализма и, в частности, рост неравенства, просто обратившись к динамике изменений заработных плат и прибылей. По сути, это марксистский подход, который, наверное, имеет смысл и в контексте современного экономикса. Но давайте посмотрим, как все устроено на самом деле. Общество попросту не может быть разделено на тех, кто получает зарплату, и тех, кто получает прибыль. Вот, допустим, Иван — он как американский профессор в отставке получает пенсию от Соединенных Штатов, и что же, он капиталист? Если рассуждать в духе Пикетти, то да, поскольку он получает часть прибыли пенсионного фонда. А как быть с теми, кто зарабатывает на сдаче жилья в аренду или владеет акциями? Можно также посмотреть на структуру основного капитала в отдельных странах — в США, например, значительная его часть принадлежит государству: мосты, дороги и прочая инфраструктура.
В общем, подход Пикетти ведет в совершенно неверном направлении, и мы ничего не поймем, если не добавим к зарплатам и прибылям такую категорию, как рента, и не обратимся к тем, кто ее получает. Кроме того, крайне проблематично утверждение Пикетти, согласно которому главная проблема сегодня заключается в том, что прибыли растут быстрее заработных плат, и это порождает рост неравенства. Давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны: когда зарплаты растут быстрее прибылей? Именно такую картину мы имели при социализме. Одним словом, Пикетти — марксист. Он пытается это скрыть, но в основе его подход именно марксистский.
— Ответил ли Пикетти на вашу критику?
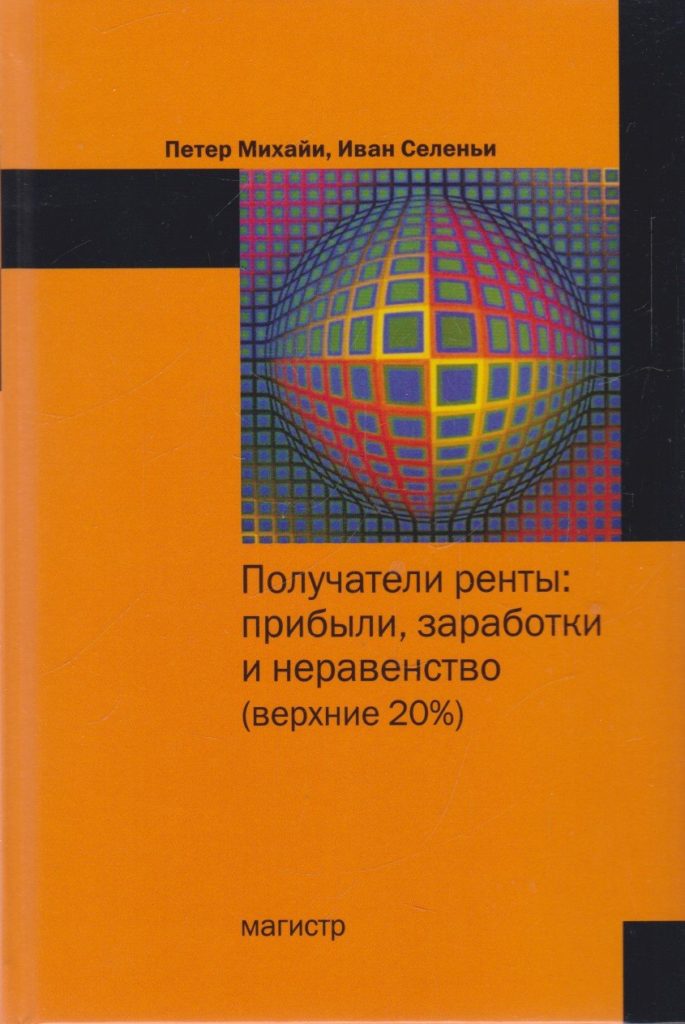
ПМ: В 2017 году у нас состоялся небольшой обмен электронными письмами. Процитирую то, что написал Пикетти: «Прочел вашу статью с большим интересом, но не соглашусь с тем, как вы характеризуете мой подход. Я пытался написать многомерную историю отношений капитала и собственности, однако я совершенно не верю в единообразную хорошую модель капитала. Вероятно, я не вполне четко выразил ряд своих мыслей. Постараюсь сделать это лучше в других своих книгах!» Иными словами, его ответ был неким жестом вежливости, но не предполагал полноценной дискуссии. Спустя год Пикетти получил приглашение выступить в Центрально-Европейском университете. После этого выступления Иван пригласил его на ужин, но Пикетти дипломатично отказался — после лекции он смог лишь ответить на несколько вопросов.
ИС: Конечно, во многих аспектах Пикетти не является марксистом, но его взгляд на общество основан на принципиальном для марксизма разделении между трудом и капиталом. Это фундаментальная идея марксизма, и Пикетти от нее совершенно не может избавиться. Так что когда он рассказывает о том, как прибыли накапливаются в пределах верхнего 1% общества, это слишком уж напоминает «Манифест Коммунистической партии»: маленькая кучка эксплуататоров и огромное большинство эксплуатируемых. Это предсказание Маркса не сбылось, хотя он, разумеется, знал, что большая часть людей не принадлежат ни к числу капиталистов, ни к числу пролетариев, поскольку в его времена были и самозанятые специалисты, и рантье, и крестьяне. Но Маркс, несмотря на это, утверждал, что история идет именно в этом направлении: 1% против 99%. Это абсолютно не так. Прямо скажем, это просто ложь.
Сам я заинтересовался категорией ренты, еще когда работал в Гарварде. Мой тамошний коллега Аге Серенсен любил повторять, что ренту следует отличать от прибылей и заработных плат, поскольку ренты порождаются неконкурентными рынками. Несомненно, в прибылях тоже заложен определенный элемент рент, потому что и в капиталистических странах создаются монополии и олигополии. Если компания, имеющая такое положение, получает более высокую прибыль, чем средняя на конкурентном рынке, то лишнюю часть этой прибыли можно считать рентой. Такое представление восходит к Вильфредо Парето — по его утверждению, различие между прибылью и рентой заключается в том, что рента не добавляет новой ценности, в отличие от прибыли, которую нужно с риском реинвестировать.
Проблема ренты имеет прямое отношение к специфике посткоммунистических государств. Когда политическая власть ограничивает конкуренцию, клиенты этой власти получают очень высокие доходы или, во всяком случае, более высокие, чем если бы они участвовали в настоящей конкуренции. Не могу не вспомнить один эпизод из книги Пола Хлебникова «Крестный отец Кремля» о Ельцине, который, когда был, как обычно, пьян, для принятия принципиальных решений (например, о приватизации) обращался к своей дочери. А та говорила ему: смотри, вот это хороший парень, ему надо дать денег, а вот это — плохой парень, ему мы денег не дадим. Получается, что быть хорошим парнем — тоже некая форма ренты. Другое дело, что плохие парни часто предлагают более дельные решения, чем хорошие.
Одним словом, проблема растущего неравенства — не в прибылях, а в рентах, и, если бы Пикетти учел этот момент, у нас бы не возникло столько вопросов. Все это, конечно, не означает, что рента — обязательно нечто плохое. В действительности это необходимый элемент функционирования экономики. Например, для современного общества крайне значимо, что практикующим врачом может стать только тот, кто получил соответствующий диплом, потратив на учебу немало времени. Это означает, что количество дипломированных врачей будет ограниченным и они смогут претендовать на сравнительно высокие доходы, но в то же время такая разновидность ренты защищает качество медицинских услуг. Иначе говоря, не везде нужно стремиться к полностью конкурентным рынкам. Однако проблема в том, что рентоориентированное поведение становится основным трендом в экономике, что мы и наблюдаем сегодня в Венгрии. Несомненно, у нас немало конкурентных рынков, на которых могут достойно проявить себя талантливые люди, но рентный компонент увеличивается, и это вредит эффективности экономики.
ПМ: Действительно, легко заметить, как предприниматели переходят от производства и сферы услуг к бизнесу, связанному с недвижимостью. Например, один крупный венгерский бизнесмен в свое время участвовал в приватизации предприятий по производству шоколада и первоначально продолжал заниматься этой деятельностью, но затем понял, что конкуренция с транснациональными компаниями типа Nestle ни к чему хорошему не приведет — дело кончилось тем, что производство шоколада было прекращено, а бизнесмен занялся недвижимостью. В этой сфере нет большой международной конкуренции, зато очень полезны связи с властями. И это типичная картина для Венгрии: 70% самых богатых людей в нашей стране участвуют в бизнесе, связанном с недвижимостью или землей. Это большая проблема, поскольку экономике нужен сильный промышленный сектор, но предприниматели туда не идут.
— Можно ли рассматривать нарастание погони за рентами как главную причину общего замедления мировой экономики в последние десятилетия?
ПМ: Зависит от конкретной экономики, но для российской экономики, несомненно, связь прямая, поскольку она основана на добыче природных ресурсов.
— Правильно ли я понял из вашей книги о ренте, что для тех, кто сегодня хочет разобраться в экономике, главной отправной точкой по-прежнему остается работа Адама Смита «Богатство народов», где подробно анализируется рента и ее разновидности?
ПМ: Да, в основных вещах Смит был прав, но его книга, конечно, очень объемная, далеко не всем под силу прочесть ее полностью.
ИС: К тому же «Богатство народов» надо читать вместе с первой книгой Адама Смита, с «Теорией нравственных чувств», а она столь же велика.
— А как вы оцениваете вклад в понимание капитализма Иммануила Валлерстайна, которого марксисты в свое время обвиняли в том, что он уделяет Смиту слишком много внимания?
ИС: Сегодня Валлерстайн по-прежнему очень влиятелен среди молодых радикальных экономистов, социологов и политологов, они любят первый том его «Мир-системы». Однако в дальнейшем Валлерстайн значительно отошел от своих исходных позиций, которые во многом основывались на идеях статьи Андре Гундер Франка «Развитие недоразвитости». Конечно, еще во время работы над первым томом Валлерстайн понимал, что в мир-системе могут происходить изменения, и по мере того, как история развивалась дальше, а Валлерстайн писал следующие тома, становилось очевидным, что теория Гундер Франка не работает. Посмотрите на Китай: оказалось, что периферийная страна может войти в ядро мир-системы. Валлерстайн это понимал, но не давал этому объяснения — он больше рассуждал о том, что в мире увеличивается неравенство, что богатые становятся богаче, а бедные беднее. Правда, Валлерстайн действительно менялся. В его более поздних работах все меньше ссылок на Маркса и все больше на Макса Вебера.
Лично меня больше всего интересует связь работ Валлерстайна с концепцией Карла Поланьи, знаменитого венгерского экономиста. В действительности с него-то мир-системная теория и началась, когда Поланьи писал о распаде империй и формировании рыночных экономик (к которым он относился, впрочем, довольно скептически). Но совершенно очевидно, что именно Поланьи начал рассматривать мировую экономику как некое целое. Правда, насколько я помню, в первом томе Валлерстайн не ссылается на Поланьи, что особенно любопытно, поскольку оба они начинали с работ по Африке. Разумеется, Валлерстайн прекрасно знал концепцию Поланьи, они были коллегами и общались. Но Валлерстайн писал свою книгу в 1972—1973 годах, когда марксизм в социальных науках в США был чрезвычайно могущественным, а Поланьи по сути не был марксистом (сегодня его пытаются перепрочесть как марксиста, но мне кажется, что это неверная интерпретация).
При жизни Валлерстайна мы с ним находились в постоянном диалоге. Собственно, я и пригласил его в Йельский университет, когда у него заканчивался контракт в Университете штата Нью-Йорк в Бингемтоне. Какое-то время он не знал, куда отправиться дальше, хотя мог поехать в Париж, где у него была квартира. Однажды он заглянул в Йель и рассказал мне, что ищет хороший университет в городе, подходящем для жизни. Тогда я ему сказал: ты уже на месте, оставайся, до Нью-Йорка полтора часа на поезде. У меня на тот момент было много свободных помещений, и Валлерстайну этого оказалось достаточно — и для нас, и для него это было прекрасное решение.
— У Валлерстайна был в свое время очень ценный соавтор и единомышленник — Теренс Хопкинс, их тандем считается образцовым. А как вам работается вместе?
ИС: Все началось, как уже сказал Петер, с Пикетти. Прочитав его книгу, мы стали обсуждать ее в электронной переписке практически ежедневно. В какой-то момент Петер мне и говорит: Иван, нам надо собрать все эти письма, и у нас получится статья. В итоге мы написали уже две книги. Для меня Петер — фантастический соавтор, поскольку я пишу довольно небрежно, даже чисто грамматически, и Петер в этом смысле оказывает мне невероятную помощь, в том числе когда редактирует написанное мной.
ПМ: Мои родители были журналистами, отец работал редактором журнала, так что все свое детство я видел, как он редактирует чьи-то статьи для публикации. Поэтому я прекрасно знаю, как работать с текстом, у меня собственный большой опыт редактирования — я уже почти десять лет издаю журнал Acta Oeconomica, в год выходит четыре-пять номеров.
«За несколько дней до смерти в Лукаче проснулся человек»
— А как сегодня в Венгрии воспринимается фигура Дьердя Лукача? В России интерес к его личности по-прежнему высок, периодически переиздаются или издаются впервые различные его работы. Какие, на ваш взгляд, произведения Лукача стоит прочесть?
 Дьердь Лукач, 1919.
Дьердь Лукач, 1919.
Источник
ИС: Я большой поклонник Лукача, особенно его ранних работ, таких как «Теория романа» и «Теория драмы», которые относятся к его гегельянскому периоду. И даже когда Лукач стал марксистом, он никогда не был зашоренным теоретиком, для него был характерен эклектичный подход. Его книга «История и классовое сознание» была невероятно влиятельной. Но затем Лукач принял злосчастное решение отправиться в СССР, и этот его период для меня нечитабелен. Хуже того, он превратился в карикатуру на некоторых великих социологов рубежа XIX–XX веков, хотя с некоторыми из них был близко знаком, например, с Максом Вебером, несмотря на большую разницу в возрасте. В «Истории и классовом сознании» по-прежнему прослеживается влияние Вебера, но затем все это исчезает.
Конечно, в Советском Союзе Лукачу жилось нелегко — там ему приходилось писать то, что от него хотел слышать режим. Вы, конечно, знаете, что ему пришлось побывать в тюрьме, один из его пасынков был отправлен в ГУЛАГ, где чуть не умер, хотя потом стал хорошим экономистом. Когда Лукач вернулся в Венгрию, он почти сразу отбросил все, о чем писал в советской России, его ученики составили потом Будапештскую школу — Агнеш Хеллер, Дьердь Маркуш, это были действительно талантливые люди. Но в последние годы Лукач жил в полной изоляции. Он совершенно не читал лекций, так что я никогда не слушал его лично и не был с ним знаком. Но в 1980-х годах, когда я уже преподавал в Университете Мэдисона в Висконсине, я понял, насколько влиятельным он оставался во всем мире даже после смерти. Я тогда дружил с одним немецким профессором, с которым мы читали курс по Лукачу, — к нам в аудиторию приходило полсотни студентов, хотя обычно на такие занятия являлось в среднем человек пять.
ПМ: Конечно, он был знаковой фигурой XX века. Лукач играл важнейшую роль в интеллектуальной жизни Венгрии на протяжении нескольких десятилетий и во все переломные моменты истории страны — после Второй мировой, в 1956 году, в 1968-м. Хотя в конце жизни он действительно был почти непубличным человеком, его присутствие всегда ощущалось. Я не философ, но мои друзья-философы, которые были близки к Лукачу и его школе, говорят, что наше поколение — это «детский сад имени Лукача». Правда, они придерживаются довольно негативного мнения о его последней большой книге «К онтологии общественного бытия». Я читал ее в свое время и обнаружил, что даже марксистская интерпретация истории в изложении Лукача интересна и полезна. Там много повторов, но в любом случае это очень интеллектуальная работа, где Лукач, помимо прочего, очень точно описывает советскую экономику. Думаю, ему первому в 1970-е годы позволили опубликовать такие высказывания. Например, там были такие рассуждения: пример советской экономики не демонстрирует ничего важного, поскольку советская система строилась в качестве реакции на спонтанные сложности наподобие Гражданской войны, голода и т. д.
Конечно, Лукач оставался марксистом до конца жизни, он по-прежнему верил, что социализм может оказаться успешным — худший социализм, говорил он, лучше лучшего капитализма. Но его аргументация была логической. Разумеется, мы должны принимать в расчет те моральные дилеммы, с которыми сталкивался Лукач в течение своей жизни, но в любом случае он остается одним из главных венгерских интеллектуалов ХХ века.
ИС: Агнеш Хеллер, ближайшая ученица Лукача, рассказывала мне о последних днях его жизни. На столе у Лукача всегда лежали груды книг, но незадолго до смерти он убрал их все, а затем положил на стол всего одну — это был Фрейд...
ПМ: И вот что еще рассказывала Агнеш. Незадолго до смерти Лукач уже не мог работать, но все еще получал письма со всего мира. Письма он не читал, но брал конверты, вырезал из них марки, зная, что Агнеш коллекционирует их, и отдавал ей. По словам Агнеш, до этого Лукач десятилетиями избегал человеческих отношений со своими учениками — никогда не спрашивал, как поживают ваши дети, не говорил, как вы замечательно одеты и все такое. Он был совершенно выключен из этого, но в самые последние недели жизни в нем вдруг проснулся человек. Думаю, эта история тоже многое о нем говорит.
